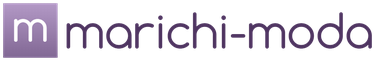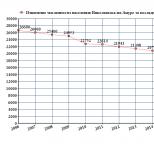Структура бытия платона. Диалектика бытия и небытия
1. Связь платоновской гносеологии с его онтологией
2. Эрос как влечение к созерцанию идей (диалог «Федр»)
3. Платонова диалектика
4. Диалектический метод Платона
5. Проблема познания
6. Борьба с сенсуализмом (диалог «Теэтет»)
7. Мышление и слово
8. Гносеологические проблемы
На самом деле, в это время еще не мыслится никакое отдельное “учение о знании”, нет никакой “гносеологии”. Знание коренным образом связано с сущностью вещи. Теоретическая способность имеет фактически онтологический характер, сами умы рассматриваются как высшие в иерархии сотворенных сущих, сам ум еще есть бытие.
Связь платоновской гносеологии с его онтологией
1. Знание и мнение
Данному порядку бытия (и небытия) соответствует и структура платоновской теории познания, в которой находят свое место категории “знание” и “мнение”. Согласно Платону, подлинное знание, или истина, может быть получено лишь в результате познания подлинного бытия, мира идей. Поскольку небытие нельзя мыслить (так утверждал Парменид), то ему соответствует незнание. Что же касается неподлинного бытия, то его отражение в сознании дает мнение. Материальный мир, который мы познаем своими чувствами, является, согласно Платону, лишь подобием, “тенью” мира идей, поэтому чувственное познание дает представление лишь о кажущемся бытии, а не о бытии подлинном. Истинное же познание есть познание разумное, проникающее в мир идей.
«С указанными 4 отрезками соотнеси мне те 4 состояния, что возникают в душе: на высшей ступени – разум (ноэсис), на второй – рассудок (дианойа), третье место удели вере (пистис), а последнее – уподоблению (эйкасиа)».
"Ноэсис" и "дианойа" в качестве собственно познания суть виды познания, максимально независимые от эмпирии, чувственного опыта.
Платон делит познание на мнение и истинное знание. В свою очередь, мнение (“докса”), т. е. знание о преходящих, изменчивых вещах, подразделяется им на воображение и верование. Истинное же знание, “эпистема”, включает в себя “дианойю” – знание рассудочное, опосредованное, дискурсивное и “ноэзис” – интуитивное, беспредпосылочное знание, чистое созерцание, усмотрение разумом мира идей непосредственным образом. По Платону, ноэзис – высшая ступень познания истины, она доступна лишь мудрецам, прошедшим этапы посвящения. Мифы, которыми изобилуют диалоги Платона, служат средством “наведения” посвященных на рождение в себе этого знания.
В соответствии с таким делением души возможны и несколько видов знания о внешнем мире. При помощи чувств человек имеет чувственное знание, а при помощи разума – интеллектуальное. Эти 2 вида знания, соответственно, также делятся еще на два вида: интеллектуальное знание – на рассудочное и разумное, а чувственное – на веру и подобие. Рассудок открывает истину при помощи логических рассуждений, а разум (ум) – интуитивно, схватывая истину сразу. Конечно же, разум – это высший вид знания, наиболее истинный, ибо приходит к истине непосредственно, а рассудок, постигая истину опосредованно, является менее достоверным видом знания.
Еще менее достоверное знание дают вера и подобие. Вера есть знание о чувственном мире, а поскольку в чувственном мире, кроме бытия, содержится и материя, небытие, то и вера – это не знание в собственном смысле слова, а мнение, т. е. вероятное знание. О подобии Платон говорит вскользь. Но следует иметь в виду, что Платон в дальнейшем говорит, что искусство как оперирование с чувственными предметами недостойно человека, поскольку сами по себе чувственные предметы содержат в себе небытие.
2. Как быть с мнением?
Согласно Платону, все, что мы можем узнать относительно чувственного мира, имеет статус не подлинного знания, но лишь мнение, – а потому изучение чувственного мира без соответствующей установки не только не способствует познанию истинного бытия, но напротив может тому препятствовать.
Платон говорит, что нам следует сначала отойти от природы, точнее, отойти от нее в том виде, как она дана чувственному созерцанию, и выработать новые средства познания, которые позволят впоследствии подойти к ней гораздо ближе, чем эта делали натурфилософы. Платона не удовлетворяет в натурфилософских построениях то, что они пользуются для объяснения природы метафорами, т. е. аналогиями, а не логическими понятиями. Всякая метафора фиксирует лишь одну сторону явления, и потому любое явление можно описать с помощью бесчисленного множества метафор, – ибо оно имеет бесчисленное множество “сторон” (точнее, может быть узрено с различных т. зр.), – а потому может существовать и бесчисленное множество метафорических (натурфилософских) описаний его.
Второй особенностью натурфилософии, тесно связанной с первой, является отсутствие доказательности: натурфилософ может лишь показать, а затем, по аналогии, распространить подмеченную им частную закономерность на весь мир вообще. Благодаря критической работе, проведенной элеатами, Платон понимает, что всякое явление может иметь столько метафорических определений, сколько у него имеется связей и опосредований, а их бесконечно много, как бесконечно много оказывается и усматриваемых аналогий.
Платон же утверждает, что, прежде чем что-либо определять, следует понять, что такое определение; прежде чем что-либо понимать, надо выяснить, что же такое понимание, прежде чем мыслить, надо дать себе отчет в том, что же такое мышление. Эту задачу Платон ставит практически во всех своих диалогах, но наиболее четко и последовательно он анализирует, что такое мышление, в диалоге «Парменид».
3. Рационализм Платона
Создав учение об идеях, платон и в теории познания продвинулся дальше, чем его предшественники. Если элеатам еще приходилось защищать свой самодовлеющий универсум от эмпирических противоречий, то платон смог полностью отказаться от чувственно-воспринимаемого мира как источника познания.
Теоретико-познавательное ядро символа линии сводится к рационализму. Чем выше онтологический статус данного предмета, чем более ценно его познание, тем он достовернее, тем увереннее можно усматривать его источник в уме, а не в наглядном созерцании. ПЛАТОН распределяет указанные в символе линии сферы бытия по таким уровням познания:
Если сократ еще делал ставку на индуктивный вывод общего из особенного, то у платона высшая форма знания ниоткуда не выводима. Идеи невозможно выводить из их конкретных “воплощений” – они усматриваются беспредпосылочно: «Разум (ноэсис) устремляется к началу всего, которое уже не предположительно. Достигнув его и придерживаясь всего, с чем оно связано, он приходит затем к заключению, вовсе не пользуясь ничем чувственным, но лишь самими идеями в их взаимном отношении, и его выводы относятся только к ним».
4. Подлинное знание – результат духовного созерцания
Предметом истинного познания может выступать только нечто общее, универсальное, т. е. мир идей. Чувственно-конкретный мир, хотя и воспринимается человеком, может быть лишь объектом мнения или представления, так как единичные вещи обладают лишь относительным существованием.
Знание не является результатом чувственных восприятий; скорее оно – предшествующее им условие. Между вещами существуют общие отношения, которые не ощущаются, а понимаются нами. Таковы понятия тождества, различия, сходства, величины, единства, множества. Человеческая душа обладает способностью непосредственного усмотрения этих общих начал. Т. обр., знание есть результат духовного созерцания или “припоминания”.
5. Знание – не во впечатлениях, а в суждениях
Критерий, позволяющий правильно ориентироваться в мире чувственных данностей, Платон (задолго до Канта) формулирует так «... не во впечатлениях заключается знание, а в умозаключениях о них, ибо, видимо, именно здесь можно схватить сущность и истину, там же – нет» ("Теэтет"). Ни ощущения, ни правильные мнения, ни объяснения их не дают еще знания как такового, хотя и необходимы для подступа к нему. Над ними стоит рассудочная (дискурсивная) способность, а ее превосходит созерцающий подлинное бытие ум. Этой иерархии познавательных способностей соответствуют: имя, словесное определение, образ вещи (т. е. возникающее в нас представление о ней), или ее идея, независимое от нас бытие которой мы изначально предполагаем. (“К & М”).
Находясь уже среди чувственно-конкретных вещей, душа начинает припоминать виденное ранее. Вслед за Сократом Платон считал, что истинное знание имеет основание в самом себе и поэтому не может быть усвоено внешним, догматическим образом.
Эрос как влечение к созерцанию идей (диалог «Федр»)
1. Переход к конкретному идеализму
Отвлеченный идеализм не мог дать философу оснований ни для научного объяснения природы, ни для практического воздействия на общество. Но в самой идее блага заключалось начало для перехода к идеализму конкретному и практическому: мир и человек не составляют безусловной границы абсолютного Блага. Оно отражается, осуществляется в мире, оно познается человеком и через его познание осуществимо в чел. обществе. Все вещи, так или иначе, "причастны" идеям, а следовательно, причастны идее блага и стремятся к ней; все разумные существа причастны познанию, а следовательно, в них возможно высшее духовно-разумное соединение с источником бытия.
Во всей природе Платон усматривает общее влечение к нему – бессознательное в низших созданиях, инстинктивное в животных и просвещенное в человеке: название этого стремления к блаженству, к благу или к полноте бытия есть Эрос – имя древнего бога любовного влечения. В мире животных существ им обусловливается акт размножения, посредством которого род осуществляется в смене индивидов, возникающих и уничтожающихся; в нем совершается приобщение преходящей, смертной природы – вечной и неизменной родовой идее. В человеке Эрос проявляется, как любовный пафос, влекущий нас к красоте, заставляющий нас видеть идеал в образе любимого существа. Платон показывает, каким образом это прозрение идеала может постепенно воспитываться философией и постепенно от созерцания чувственной красоты возвести человека к созерцанию моря прекрасного – умной, бесплотной красоты. Итак, с одной стороны – Благо "чуждое зависти", сообщающееся, наполняющее все своими лучами, "умное солнце"; с другой – Вселенная, притягиваемая этим солнцем, исполненная все возрастающим влечением к нему, отражающая и поглощающая его лучи.
Но если мир идей мыслится в качестве причины, воздействующей на мир реальный, то, очевидно, он перестает быть чем-то абсолютно ему противоположным, отрешенным от него и неподвижным. Раз идеи понимаются в качестве действующих сил, то представление о них должно измениться…
2. Стремление к красоте познания
Силу, влекущую людей в сферу истинного бытия, Платон называет эросом. Эрос пробуждает в человеке желание отдаться созерцанию идей. В "Пире" он описан как философсоке стремление к красоте познания, т. е. эрос посредничает между миром чувственного и умопостигаемым миром. В отношениях с окружающими его педагогическая функция (эпимёлейа, забота) проявляется в том, чтобы способствовать им в приобщении к познанию.
Метод, ведущий к этому познанию, Платон называет диалектикой. Она для него – квинтэссенция всякого знания об истинном бытии в противоположность натурфилософии, занимающейся процессами эмпирического мира. Дорога к припоминанию идеи, по Платону, открывается в диалоге. Здесь всегда работают с понятиями, выступающими представителями идей. В диалоге идеи должны выявлять свои смысл, а их взаимосвязи – приходить к большей ясности диалектически, без обращения к помощи наглядных представлений. Это происходит благодаря применению понятий анализа и синтеза, а также благодаря построению гипотез, которые подвергаются проверке, принимаются или отвергаются. Таким образом, участники платоновских диалогов сознательно занимают противоположные позиции, чтобы проверить тезисы и антитезисы.
Платонова диалектика
1. Отношение между идеальным и чувственным
Платон полностью согласен с элеатами в том, что без наличия чего-то самотождественного невозможно никакое познание. Но тут же возникает и антитезис, сформулированный софистами: самотождественное – это то, что отнесено лишь к себе самому, а, следовательно, оно не может быть познаваемым, ибо познание есть отнесение к познающему субъекту. Значит, то, что может быть познано, есть всегда иное.
Антиномию эту Платон разрешает следующим образом: тождественное самому себе, а стало быть, неизменное, вечное, неделимое бытие предмета не может быть дано среди явлений чувственного мира, а потому должно быть вынесено за его пределы. Это бытие Платон и называет идеей.
В последний период своей деятельности Платон сближает свои идеи с числами пифагорейцев, сводя их к основным категориям единства и множества, предела и беспредельного. По-видимому, под влиянием натурфилософского и математического интереса, а также благодаря общению с пифагорейцами, математиками и астрономами (Архит, Евдокс, Гераклит), Платон пытался сблизить свою идеологию с пифагорейским учением о пределе и беспредельном (см. «Филеб», одно из позднейших произведений Платона) и с учением о числах, как основных метафизических, умопостигаемых категориях и нормах существующего.
2. Может ли единое быть многим?
Но возникает вопрос о возможности познания этой идеи, о возможности ее вступить в контакт с чем-либо иным кроме себя, в т. ч. и с познающим субъектом, поскольку идея есть нечто единое, а соответствующих вещей, т. е. чувственных воплощений этой идеи может быть много, то отношение между идеальным и чувственным – это отношение между единым и многим. Т. о. полемика между элеатами и пифагорейцами, по вопросу о едином и многом вновь возрождается у Платона, обогащаясь при этом аспектом, которого не было прежде – аспектом гносеологическим.
В диалоге «Парменид» Платон рассматривает вопрос: как может единое – и может ли – быть многим? Платон строит свое рассуждение по тому же принципу, по какому строится косвенное доказательство в «Началах» Евклида, а именно: он принимает определенное допущение и показывает, какие выводы следуют из этого допущения. Этот метод получил впоследствии название гипотетико-дедуктивного; его дальнейшая логическая разработка была продолжена Аристотелем. Этот метод и по сей день остается единственным методом экспликации следствий, вытекающих из некоторого принятого тезиса.
Платон показывает, что условием познания (и, что важно, не только познания, но и самого бытия) единого является его соотнесенность с другими, а другое единого есть многое. И наоборот: условием познаваемости (и существования) многого является его соотнесенность с единым, без которого это многое превращается в беспредельное (апейрон) и становится не только непознаваемым, но и не сущим (“ничем”, беспредельным небытием). Т. о. Платон одновременно решает (умо-зрительно!) 2 вопроса: онтологический – как может единое стать многим, т. е. как может идея воплотиться в чувственный мир, и гносеологический – как может единое быть предметом познания, ибо познание предполагает отнесение единого и себе тождественного к другому – субъекту знания. По Платону, единое есть многое, если оно мыслится соотнесенным с другим, а если его так не мыслить, то его вообще невозможно мыслить. Эта соотнесенность есть характеристика именно самих идей; соотнесенность логосов определяет собою причастность к ним вещей и проистекающую из этой связи соотнесенность уже и самих вещей.
3. Единство противоположностей находится уже в мире умопостигаемом
У элеатов Единое выступает как начало ни с чем не соотнесенное, а потому противоположное многому, т. е. миру чувственному. Чувственный же мир для них противоречив, ибо в нем вещи «соединяются и разобщаются» одновременно.
Платон же показывает, что это «соединение и разобщение», т. е. единство противоположностей, свойственно и миру умопостигаемому (т. е. тому, что элеаты называют «единым») и что лишь благодаря этому единое может быть и именуемым, и познаваемым. Если же его рассматривать так, как того требуют Парменид и Зенон, то оно будет вообще непознаваемым и безымянным, а, значит, и несуществующим. Т. обр., то единство многого, т. е. система, которая составляет сущность умопостигаемого мира, обуславливает существование, познаваемость и целостность мира чувственного.
Диалектический метод Платона
1. Диалектический метод
Вместе с философией Сократа Платон усвоил его диалектический метод, причем он точнее формулировал его приемы. Как и для Сократа, диалектика является ему искусством образования понятий (посредством логической индукции) и их соединения. Диалектик умеет подвести все то множество и многообразие, которое в действительности относится к тому или иному роду бытия, под общее понятие этого рода: он умеет ясно определить, составить понятие. И вместе с тем он может правильно знать и указывать, какие понятия соединимы между собой, какие нет, какие связываются друг с другом и какие не связываются. Подобно тому как музыкант подбирает тона, зная, которые из них образуют стройное созвучие, так и диалектик знает, какие из понятий или "родов" согласуются между собой и какие исключают друг друга. Так, например, понятия покоя и движения не совместимы друг с другом, но каждое из них совместимо с понятием существования, и прочее.
Истинный диалектик умеет восходить от множества явлений к единому общему понятию, от частного к общему. Это – так называемое "сведение"
Диалектик обладает также искусством отличать понятия друг от друга (дистинкции), и вместе с тем он же умеет спускаться от единого ко многому, от общего к частному – делить, органически расчленять род на подчиненные ему виды и подвиды, спускаясь до частного и единичного, чтобы не витать в области отвлеченностей, но познавать подлинные свойства, индивидуальные особенности вещей. Это деление понятий составляет 2-ю часть диалектического метода: посредством полного и последовательного перечисления всех видов и подвидов измерить логически всю область данного рода и проследить все разветвления понятий до крайнего предела деления, до такой точки, где кончается их логическое расчленение.
Надо общий род, например, род животных, расчленить на те отдельные роды, которые он обнимает, т. е. в данном случае на позвоночных, беспозвоночных и т.д. Словом, здесь Платон проводит принцип логической классификации, которая имела для него метафизическое значение.
2. Понятия как предмет диалектики
Т. обр., предмет диалектики – понятия. В ней чистые, универсальные понятия понимаются и развиваются независимо от всякой чувственной формы. Ею владеет лишь философ, ибо он один понимает сущее, то, что есть, а не то, что кажется, сущность, а не явление вещи. Определение понятия не есть простое перечисление того, что под ним подразумевается; в нем понимается то, что встречается во всех единичных однородных предметах, то общее, без которого ничто частное не может быть понято.
Понятием определяется сущность вещи, поскольку оно устанавливает совокупность отличительных признаков ее рода и вида. Метод определения понятий – Сократову индукцию – Платон дополняет новым способом проверки, который заключается в испытании принятых предположений посредством рассмотрения их последствий.
Всякое предположение должно быть развито во всех своих положительных и отрицательных последствиях, чтобы мы могли знать, насколько оно необходимо или допустимо: должны быть выведены все возможные последствия, сначала из него самого, затем из противоположного ему предположения, чтобы можно было ясно видеть, которое из них более допустимо, более вероятно и согласно с действительностью.
Но что же мыслится, что познается в таких понятиях? Каждое определенное понятие, очевидно, имеет в виду не то многообразие различных предметов, которые им обнимаются, а то, что в них есть общего, – их вид или род (ειδη χαι γενη). Роды и виды не изменяются в зависимости от изменения вещей, они всегда пребывают: лишь чувственные вещи и, соответственно им, человеческие ощущения и мнения подвергаются вечному процессу изменения. Виды не меняются, как и понятие, которое остается постоянно тожественным: они пребывают, между тем, как чувственные вещи преходящи и случайны. В "видах" заключается истинная суть вещей, поскольку ими определяется то, что есть каждая вещь, ее сущность. В отдельных вещах, наоборот, мы находим лишь дробное случайное отражение, случай общего вида; они существуют лишь “по приобщению” к такому "виду", которым они определяются.
Диалектика, стремящаяся к определению и познанию "видов", не ограничивается исследованием отдельных понятий или родов той или другой вещи; но она должна направлять свой умственный взор на совокупность родов и видов вещей, исследуя их взаимные отношения. Поэтому она есть подлинная наука о сущем. Все др. науки вращаются в области изменчивого и многообразного, как, напр., физика, или же исходят из некоторых гипотез, которые они принимают, но не исследуют, какова математика. Одна диалектика имеет дело с вечно-сущим, вечно-тожественным. Так что диалектика Платона переходит в метафизику, в новое учение о сущем, о его умопостигаемых "видах", "формах" или "идеях".
Эти умопостигаемые виды обладают подлинным бытием, а все единичные чувственные вещи не обладают им сами по себе и существуют лишь постольку, поскольку они "причастны" данному общему "виду" или "идее". Отсюда – вывод, аналогичный тому, который делал Парменид: истинное сущее есть мыслимое, а то, что немыслимо, тому мы и не можем приписывать бытия – небытие (μη ον) немыслимо. Разница с Парменидом – та, что Платон все-таки допускал относительную действительность феноменального существования, т. е. мира явлений: единичные вещи обладают в нем относительным существованием, поскольку они причастны" идеям. Но поскольку чувственный мир не может быть отожествлен ни с абсолютным умопостигаемым сущим, ни с чистым "небытием" Парменида, он, хотя воспринимается нами, но не может быть объектом чистого познания: он лежит между знанием и незнанием, подлежит "мнению" (δοξα), кот. свойственно чувственному восприятию.
Такой результат явно отличается от того, к которому пришел Сократ. Диалектика Платона приводит его к новой умозрительной философии, а следовательно, и к новому решению вопроса о существе и возможности познания. Правда, уже Сократ признавал истинным лишь лог. знание, осуществляющееся через посредство универсальных понятий, но он считал такое знание возможным лишь в нравственной области. Но Платон, будучи математиком, не мог не заметить, что познания, обладающие характером безусловности и всеобщности, или "кафоличности", существуют и в геометрии; это он показывает уже в "Меноне". Не доказывает ли это, что разум наш в своих понятиях может познавать всеобщие и необходимые истины и за пределами внутренней, нравственной области человека? Он может познавать и математические законы, которым подчиняется и внешний мир.
3. Роды и виды
В плане познания бытия и сущностей бытия Платон называет понятия, или идеи, относящиеся ко многим вещам, родами и видами. “Виды” получаются из “родов” в результате разделения «рода», т. е. разделения его полного объема. В деле познания возникает задача – постигнуть единый прообраз многих вещей данного разряда, т. е. постигнуть их «род» и «виды» этого рода. Другая постоянно возникающая задача – исследование вопроса о том, какие «роды» согласуются друг с другом и какие не согласуются. Для решения этих вопросов необходимо, по Платону, особое и притом высшее искусство, которое, как мы увидим далее, он называет «диалектикой». Смысл платоновского термина отнюдь не совпадает с нашим современным смыслом этого же слова. Собственно говоря, «диалектика» Платона – искусство делить предметы (и понятия о предметах) на роды, а внутри рода различать его виды.
Так как, по Платону, в результате правильного определения рода и правильного разделения рода на виды достигается усмотрение сущностей, то Платон называет «диалектику» наукой о сущем. Диалектика («Государство») есть созерцание самих сущностей, а не одних лишь теней сущностей.
Понятая в этом смысле «диалектика» Платона есть двойной метод.
1) Это, во-первых, метод восхождения через гипотезы до идей или до начал. Т. е. это метод отыскивания во многом одного, или общего; будучи достигнуто, отыскание единого и общего приводит душу к тому, что в понятии, или посредством понятия, душа созерцает самую «идею» в онтологическом смысле слова «идея».
2) Во-вторых, «диалектика» Платона – метод нисхождения, идущего от начал, т. е. метод деления родов на виды.
Характеристика двойного метода «диалектики» развита в «Федре». Здесь первый метод (метод восхождения к «идее») называется соединением, так как множество разъединенных вещей не подводит под одну идею. 2-й метод (нисхождение от родов к видам) называется здесь делением.
Сократ указал, что истинное познание осуществляющееся посредством всеобщих понятий, всеобщих определений, то есть – логическое. Отсюда Платон заключил, что и предмет истинного знания – истинное бытие – есть также нечто общее, универсальное. Логическим родам или общим понятиям соответствуют действительные "виды" существ, их родовые формы или "идеи". Но, поскольку эти виды или идеи пребывают неизменно, поскольку им принадлежит истинное бытие, – они определяются как сущности.
4. Идея как сущность вещи
Идея есть прежде всего сущность вещи, соответствующая истинному понятию о ней. Эта сущность, соответствующая общему понятию, сама есть нечто общее – род или вид. Род есть то общее, что свойственно сразу бесконечному множеству частных вещей и может сказываться о многом, будучи едино. "Мы принимаем одну идею там, где множеством вещей называем одним и тем же именем".
Эти идеи не суть наши мысли, наши субъективные представления; они обладают вечной реальностью и не подвержены никакому изменению или смешению. Каждая идея сама по себе противополагается в своей чистоте, единстве и неизменности множеству причастных ей чувственных вещей как их вечный первообраз. Относительно всех идей можно сказать то, что Платон говорит про идею красоты. "Сама красота есть нечто вечное: она не произошла и не проходит, не растет и не уничтожается; про нее нельзя сказать, что она прекрасна в одном отношении, дурна в другом, так чтобы она явилась одним так, другим иначе. Также она не может быть чувственно воспринята нами, как, например, красивое лицо или красивая рука... и она не существует в чем-либо другом как, напр., в каком-либо животном на земле или на небе, но она есть сама по себе вечно однородная, тожественная себе самой. Все другое, что мы называем прекрасным, причастно ей; но между тем, как все это другое возникает и уничтожается, – сама красота не прибывает и не убывает и не испытывает никакого изменения".
Т. обр., идеи суть истинные сущности вещей и вместе их причины, дающие им все их формы, вид и свойства. Они присущи вещам, которые им причастны. Но в то же время Платон отделил идеи от естественного мира и противоположил их ему. Невещественные и вечные, они витают над миром вне пространства и времени, "в долине правды", в "умном месте", доступные лишь созерцанию бесплотных блаженных духов.
Т. обр., по своему происхождению идеи Платона суть понятия, которые превращаются в сущности. Таков результат его диалектики.
5. Иллюстрации
Рассматривая видимые явления, мы убеждаемся в существовании родов и видов, общих форм и свойств. Напр., во всех деревьях мы замечаем общие признаки – и вместе с тем все видимые нами деревья разнообразны. Деревья изменяются, растут и засыхают, но родовые свойства, общие всем деревьям, пребывают точно так же, как и отдельные их виды. Стало быть, есть некоторые общие свойства; и существуют роды и виды, остающиеся вечно и неизменно, между тем, как все частное, единичное проходит и погибает. Отдельные существа мы видим и воспринимаем чувствами, а род мы мыслим; но род есть не только умопостигаемое понятие: это – нечто реальное, что делает вещи тем, чем они суть: человека – человеком, дерево – деревом. Не то, что изменяется и проходит как чувственные вещи, а то, что пребывает неизменным, общие свойства и отношения, родовые формы обладают подлинной действительностью. Лишь то, что пребывает, есть истинная сущность вещей. – Однако все частные вещи представляют свой род лишь отчасти. На этом основывается разница между простым подражанием природе, копированием ее и ее художественным воспроизведением: художник стремится выразить идею вещи, а не повторить ее случайное выражение, потому что он сознает идею, различает ее духовным взором в самых неясных и неполных, чувственных ее отражениях.
Проблема познания
1. Как мы познаем?
По Платону, души существуют вечно (и в ту, и в другую сторону), души существовали до рождения и будут жить после смерти. Души до рождения обитали в мире идей, видели эти идеи и познавали их сразу, непосредственно, целиком. При рождении человека души, попадая в тела, забывают все те знания, которые они имели до рождения, но идеи в себе все же хранят и, встречаясь с предметами, души начинают припоминать то знание, которое имели до рождения, т. е. до воплощения в тело. – Поэтому и возникает в нас знание о мире.
Когда человек видит незнакомый ему предмет, то он сразу вспоминает идею этого предмета и сразу делает вывод о том, что это за предмет – что это стул, а не стол, что это дерево, а не камень, что это человек, а не животное. Известен спор Платона и Диогена Синопского. Платон как-то сказал, что, кроме чаши, существует и идея чаши, некоторая чашность, на что Диоген возразил: «Чашу я вижу, а чашности – не вижу». На что Платон ответил ему: «У тебя есть глаза, чтобы увидеть чашу, но нет ума, чтобы увидеть чашность».
Идея существует в некотором идеальном мире, в мире идей. Отсюда и пошло наше употребление слова «идеальный» как совершенный. Идея есть полное совершенство всех свойств предмета, есть его сущность. Кроме этого, идея является причиной его существования. Предмет существует потому, что он причастен своей идее.
Платон отталкивался от осн. положений Сократа: Источник истинного знания – разум, а элементы истинного знания – строго определенные понятия. Но где гарантия, что эти понятия являются адекватным выражением реальности? Платон нашел выход: наши понятия являются копией с неких реальностей, которые обладают исключительно умозрительным характером. «EidoV» – «вид, образ» – назвал Платон эти умозрительные реальности. Наша душа до соединения с телом витает в мире этих идей и запоминает их, а затем после соединения с телом эти понятия-идеи забываются, но постепенно вспоминаются, когда мы видим предметы чувственного мира, которые тоже являются копиями идей. Т. е. существуют 2 вида понятий: 1) в нашем мозгу и 2) в реальном мире. Приобретения знания – это процесс узнавания (или вспоминания). Это чистейший рационалистический реализм. И Платон прославился этим на века, т. к. эта теория хотя внешне необычна, но она объясняет всё чисто в рационалистическом ключе. Понятие об идеях – метафизическое или онтологическое (что одно и то же). И Платон добавил к гносеологии эту частичку онтологии и сыграл в истории философии колоссальную роль. До сих пор есть платоники. Сократики оспаривали Платона: я вижу лошадь глазами, а идею лошади не вижу! Платон отвечал: речь идет не о сенсуалистическом видении, а о рационалистическом – идею лошади надо видеть умом.
Бергсон: Платон сравнивает хорошего диалектика с ловким поваром, который рассекает тушу животного, не разрубая костей, следуя сочленениям, очерченным природой. Интеллект, всегда использующий подобные приемы, в самом деле был бы интеллектом, обращенным в сторону умозрения. Но действие, и в частности фабрикация, требует противоположной духовной тенденции. Оно хочет, чтобы мы смотрели на всякую наличную форму вещей, даже созданных природой, как на форму искусственную и временную, чтобы наша мысль сглаживала на замеченном предмете, будь это даже предмет организованный и живой, те линии, которые отмечают извне его внутреннюю структуру; словом, чтобы мы считали, что материя предмета безучастна к его форме. Материя как целое должна поэтому казаться нашей мысли необъятной тканью, из которой мы можем выкраивать что хотим, чтобы потом сшивать снова, как нам заблагорассудится. Эту нашу способность мы подтверждаем, когда говорим, что существует пространство, то есть однородная, пустая среда, бесконечная и бесконечно делимая, поддающаяся какому угодно способу разложения. Подобного рода среда никогда не воспринимается; она только постигается интеллектом. Воспринимается же протяженность – расцвеченная красками, оказывающая сопротивление, делимая соответственно линиям, обрисованным контурами реальных тел или их элементарных реальных частей. Но когда мы представляем себе нашу власть над этой материей, то есть способность разлагать ее и воссоединять по своему вкусу, мы проецируем за реальную протяженность совокупность всех возможных разложений и воссоединении в форме однородного, пустого и индифферентного пространства, поддерживающего эту протяженность. Это пространство есть, следовательно, прежде всего схема нашего возможного действия на вещи, хотя и сами вещи имеют естественную тенденцию, как мы объясним далее, войти в схему подобного рода: пространство есть точка зрения разума. Животное, вероятно, не имеет о нем никакого понятия, даже когда воспринимает, как мы, протяженные вещи. Это представление, символизирующее тенденцию человеческого интеллекта к фабрикации.
2. Вера Платона в объективную истину
Платон разделяет сократовскую уверенность в существовании абсолютной истины, в том, что критерием всего является не человек, а объективная истина. Сократ говорил, что познать мы должны прежде всего самих себя, но познавая самих себя, мы познаем при этом истину объективную, существующую независимо от нас.
Но поскольку истина не может быть познаваема чувствами, следовательно, если истина существует объективно, независимо от человека, познаваема не органами чувств и не принадлежит матер. миру, то она принадлежит миру, отличающемуся от материального мира – миру умопостигаемому, существующему одновременно и в человеке, и вне человека. Скажем, если человек, впервые в своей жизни приходя в какое-нибудь помещение или в какую-нибудь местность, никогда не видел конкретных предметов, находящихся там, то этот человек, тем не менее, с уверенностью назовет каждый предмет. Следовательно, он, видя этот предмет, совершает мыслительный процесс познания истины, т. е. сущности данного предмета, хотя он в данном материальном конкретном облачении его и не видел. – И если все мы эту операцию проделываем, и притом безошибочно, и определяем сущность предмета, выраженную в его идентификации или определении, то, значит, участвуют в данном процессе познания не органы чувств, потому что этот конкретный предмет нам незнаком, каждый предмет отличается от другого многообразием своих свойств и к тому же постоянно изменяется. Значит, мы имеем непосредственное знание о сущности этого предмета. Знание это вытекает не из органов чувств, а из другой нашей познавательной способности.
Поэтому Платон приходит к выводу, что, кроме самого материального предмета, существует нематериальная сущность данного предмета, которую человек и познает своим разумом, а не чувствами, ведь только разум может дать нам знание об абсолютной, объективной истине, иначе познание было бы просто невозможно.
Идея или эйдос, – это та умопостигаемая сущность предмета, которую мы познаем непосредственно, без помощи органов чувств. У каждого предмета своя идея: идея дерева, идея камня, стола и т.д. И каждый предмет познаваем, потому что его идея существует одновременно и отдельно от нас, обеспечивая объективность истины, и в нас, позволяя нам познавать истину.
Платон утверждает, что критерий истины находится вне нас, вне познающего – вне зависимой от него реальности внешнего предмета. В свете этого критерия Платон развивает прежде всего критику сенсуализма, опирающегося на чувственный опыт.
Платон настаивает на имеющейся в человеке “интеллектуальной интуиции”, как скажет потом Шеллинг.
3. Универсальная природа мышления
Всякая мысль, хотя бы самая простая и пустая, не может, однако, быть настолько проста и пуста, чтоб в ней нельзя было различить 2-х самостоятельных, хотя и существенно связанных между собою сторон; всякую мысль можно и неизбежно брать,
1) во-первых, как единичное состояние субъективного сознания, или как данное текущей психической наличности,
2) и, во-вторых, как то мыслимое, что в этом единичном состоянии обозначается не единичным, а всеобщим образом, как нечто объективное, если не по содержанию, то во всяком случае по форме.
В этой моей единичной, субъективной мысли мыслится не она только, но также ее другое и всеобщее. Поскольку мыслимое есть по необходимости не мое только состояние, а и нечто другое – мышление имеет природу объективную; поскольку мыслимое есть по необходимости не в этом только случае, а во всяком – мышление имеет природу универсальную, или вселенскую.
4. Идея как понятие
«Идея» Платона сближается со смыслом, который это слово – под прямым влиянием Платона – получило в обычном обиходе языка у цивилизованных народов. В этом своем значении “идея” Платона – уже не само бытие, а соответствующее бытию понятие о нем, мысль о нем, т. е. значит именно понятие, замысел, руководящий принцип, мысль и т. п.
Пример: из того, что, несмотря на различный внешний вид насекомого, рыбы и лошади, мы признаем всех этих отдельных тварей животными, можно заключить, что существует один общий пра-образ (архетип) – "животное", общий для всех животных и определяющий их сущностную форму. Такова идея животного, благодаря которой самые различные организмы только и являются животными.
У Платона на первый план выступило онтологическое и телеологическое значение слова “идея”. Но так как, по убеждению Платона, различию видов бытия строго соответствует различие видов познания, направленного на бытие, то в плане познания “идее”, т. е. истинно сущему бытию, соответствует понятие об этом бытии. В этом гносеологическом и логическом смысле “идея” Платона есть общее, родовое, понятие о сущности мыслимого предмета.
5. Проповедь идеала
Но не забудем, что идеализм Платона имеет этический корень: если, по Сократу, истинное знание есть прежде всего знание всеобщих и объективных нрав. норм, то и Платону царство идей является прежде всего царством норм всего сущего. Такие нормы есть не только в этике, но и в математике; мы находим их и в любой мыслимой родовой идее, которая является определяющим началом для индивидов данного рода. Идея понимается не только как сущее, но и как то, что должно быть, т.е. как идеал. Но это – идеал, кот. бесконечно реальнее видимой нами действительности, истиннее, прекраснее ее. И все, что в ней есть истинного, доброго и прекрасного, есть лишь отблеск и отражение этого идеала.
Сущность философии Платона и все ее историческое значение заключалась в этой проповеди идеала, в этом глубоком сознании, что идеалу принадлежит подлинная действительность и полная правда. Для изображения реального мира Платон нашел единственные пророческие образы. И так как он всюду искал его отражения, так как все ему напоминало об идеале, то он находил всюду и во всем множество доказательств и проявлений его – в природе и в душе человека. Платонова теория идей покоится не на одном основании, а на многих; это – не отдельная теорема, а вся его философия.
В истории мысли Платон был первым философом на Западе, говорившим о невидимой основе видимого бытия: эта жизнь есть только поверхность бытия, а в глубине ее клокочет то сокровенное, что является его высшей основой.
6. Эйдосы как прототипы: познание – проникновение в бытие
Платон первым сумел развить аргументацию, доказывающую подлинную реальность духовного. Есть другие глаза – глаза умозрительные, которые видят иное измерение, глаза-обобщение. Обобщение – это не фантазм, оно есть прорыв человеческого интеллекта с его мощью в другое, так сказать, во второе измерение бытия, которое Платон называет царством эйдосов, царством прообразов (по-русски слово "эйдос" здесь обычно переводится как "идея", но ведь оно не совсем удачно...). Эйдосы – это прототипы всего того, что в мире существует. И все они вращаются вокруг вечного космического Мышления, которое и создаёт этот видимый мир.
Если для индийской мысли открытие мира духовного означало перечеркивание мира телесного, то для Платона, философия которого стала вершиной, квинтэссенцией греческого мышления, проблема соотношения видимого и невидимого была решена по-своему. У него два мира имеют каждый свои законы и связаны между собой. Духовный мир и сам мир эйдосов проецируются в наш мир. Ведь существуют идеи всего на свете, это как бы мысли Божества, которое создаёт всё, мысли Вечного Архитектора.
Борьба с сенсуализмом (диалог «Теэтет»)
Что же такое знание и как оно возможно? Вопрос о природе человеческого знания пространно обсуждается в диалоге "Теэтет", хотя он приходит, видимым образом, лишь к отриц. результатам. В «Теэтете» Платон подвергает разрушительной критике сенсуалистическую теорию познания, как она разрабатывалась философами-софистами.
Сократ беседует с Теэтетом о том, что такое знание. Теэтет берет тезис Протагора и утверждает, что критерием истины является человек, он мера всех вещей. Тогда Сократ вопрошает, почему именно человек берется в качестве меры, а не свинья, тем более что сам человек берет за критерий не любого человека, а только специалиста в своем деле.
1. Не сводится ли знание к ощущениям?
Теэтет предлагает определить знание как ощущение. Мы знаем, что Аристипп по следам Протагора приходил к тому же заключению. Итак, говорит Сократ, пусть ощущение есть лишь наше субъективное состояние; вне него мы ничего не можем знать. Но животное ощущает по-своему. Если все сводится к ощущению, то все относительно, и мы ничего не можем сказать о вещах – ни истинного, ни ложного. Ложных ощущений нет, они все истинны, раз они восприняты нами: больному мед кажется горьким, теплое – холодным, он ощущает то, что он ощущает. Оставаясь в области ощущений, мы никогда не найдем никакой общей логической меры. Никто не может знать более другого, ибо все равно ощущают. Будучи индивидуальными, все ощущения относительны. Вне их мы ничего не знаем и совершенно произвольно относим их к отличным от них причинам. Поэтому всякое обобщение или умозаключение, все выходящее за пределы ощущений – не есть знание, есть ложь.
Между тем мы видим на самом деле, что существует истинное обобщение, есть знание будущего, знание, не ограничивающееся настоящим и постольку необъяснимое из одной чувственности человека. Далее, ощущение есть изменение нашего сознания; т. обр., все должно сводиться к непрестанному изменению; нельзя говорить о бытии, о чем-нибудь неизменном, пребывающем; остается лишь одна текучая волна, в которой нет ничего пребывающего, на чем можно было остановиться. Мы приходим к положению Гераклита: ничего нет, все лишь становится. И это положение в последовательном своем развитии приводит к крайнему скептицизму: ничего нельзя утверждать ни о чем, ибо все течет и ничто не пребывает тожественным.
Сократ переходит к психологической стороне познания и здесь находит, что ощущение не есть конечный источник нашего познания. Понимание и ощущение – 2 совершенно различных акта. Можно ощущать и не понимать. Мы слышим речь, которую говорят на незнакомом для нас языке, и не понимаем ее. Есть много органов ощущений и одно сознание, которое связывает между собою их разнородные показания. Каким же образом мы познаем объективные, действительные отношения ощущаемых явлений?
Мы говорим, что огонь жжет. Это есть суждение, посредством которого я связываю 2 восприятия – света и тепла; но самая связь их есть нечто иное, чем ощущение; притом ощущение чисто субъективное, а в данном утверждении мы находим и нечто объективное. Вообще, испытывая различные вещи, мы устанавливаем некоторое общее отношение между различными ощущениями, но это сравнение не может быть отнесено к ощущению.
2. Понимание ощущений
Что же должно быть помимо ощущения? Чтобы познавать предмет, мы должны понимать его; сами понятия тожества, различия, сходства, несходства, величины, единства, множества нельзя считать ощущениями; а между тем, посредством таких понятий мы судим, сравниваем, связываем различные ощущения в восприятии одного предмета, мы понимаем его как нечто объективное, независимое от наших личных ощущений. Душа не имеет никакого особого телесного органа для восприятия этих общих понятий и отношений; но так как никакое познание, никакое истинное восприятие действительных вещей немыслимо без таких понятий, то Платон признает в человеческой душе способность непосредственно усматривать общие отношения (Theaet. 185 Ε).
Так Платон опровергает Аристиппов сенсуализм и утверждает, что есть общие отношения между вещами, которые не ощущаются, а понимаются нами. Ибо уже из рассмотрения сенсуализма оказывается, что знание, даваемое путем ощущений, само предполагает знание – непосредственное усмотрение общих нечувственных начал.
Далее, если знание есть ощущение, тогда непонятно такое явление как память, потому что если мы что-то вспоминаем, то в данный момент не ощущаем и, следовательно, не имеем знания об этом предмете. Но факт памяти говорит, что знание у нас есть даже и в отсутствии чувственного восприятия.
3. Знание как “истинное мнение”
Видя неверность своего первого определения, Теэтет старается определить истинное знание как "истинное мнение". На это Сократ говорит, что для этого надо иметь критерий отличия истины от лжи. А это возможно только тогда, когда мы уже имеем в себе некоторое знание. Истинное мнение не есть еще знание, и самое отличие истинного мнения от ложного предполагает знание. Мнение может быть истинным или ложным; знание может быть только знанием, т. е. действительным, истинным знанием. Если знание есть истинное мнение, то что такое ложное мнение?
По учению Платона, "мнение" занимает посредствующее место между знанием и незнанием; если же между знанием и незнанием нет ничего посредствующего, то никакое заблуждение, никакое "мнимое" знание невозможно вовсе, как это утверждали еще некоторые софисты: нельзя не знать того, что мы истинно знаем, и принимать это за нечто другое (известное или неизвестное). И наоборот, нельзя знать того, чего мы не знаем. Всякое наше суждение предполагает установление отношений между субъектом и предикатом-свойством (отношений сходства, несходства, равенства, причинности и пр.). Но для этого надо иметь понятие о таком отношении (сходства, причинности), а равным образом и о терминах его. Высказывая, напр., суждение: "Цезарь – человек", я должен знать, что такое Цезарь и что такое человек. То же можно сказать и об определении через перечисление составных частей: если мы определяем составные элементы, то мы знаем эти элементы.
4. Знание как “истинное мнение с доказательством”
Тогда Теэтет говорит, что знание – это истинное мнение с доказательством. Но и на это Сократ замечает, что часто мы знаем вещи, не умея их доказывать, а наоборот, доказательства совсем даже не важны. Если мы, читая какое-нибудь слово, будем смотреть только на составляющие его буквы, то мы слова не поймем. Слово понимаем, когда видим его целиком, поэтому и это мнение Теэтета не является истинным.
Итак, знание предполагает знание – вот результат, к которому приходит, вроде бы, Теэтет. Результат парадоксальный, и собеседники расходятся, ничего не решив.
5. Автономность знания
Но для Платона такой результат имеет положительное значение: он указывает, что знание не основывается ни на ощущении, ни на мнении; знание имеет основание в самом себе; оно вытекает из непосредственного ведения истины, достигается посредством усмотрения общих начал и отношений. Получить такое знание извне, путем преподавания, невозможно: оно может быть лишь результатом непосредственного духовного созерцания, либо же результатом припоминания, посредством кот. мы сознаем то, что уже заключается в нас.
Итак, внешние впечатления, опыт, учение лишь пробуждают в нем знание, которое сводится к припоминанию, – об этом говорится уже в "Меноне". Здесь в философию Платона входит цикл орфически-пифагорейских представлений о душе и загробном мире, хотя представления эти и получают новое умозрительное и этическое содержание. В диалоге "Федр" мы имеем ряд пифагорейских образов: говорится о падении души из горнего мира, о ее скитаниях, об 11 богах, совершающих свои небесные странствования – одна Гестия остается неподвижной в доме богов, как у Филолая. Но в этих странствованиях боги созерцают сверхмирную, занебесную Красоту. «Никакой поэт, – говорит Платон, – никогда не воспевал и не сумел бы достойным образом воспеть красоту этого надзвездного пространства (υπερουρανιοζ τοποζ). Это – область настоящего бытия без цвета, без образа, бытия неосязаемого, видимого только уму. Это – та область, где вокруг истинного бытия покоится истинное знание. Мысль богов, которая питается этим умозрением и чистым, беспримесным знанием, точно так же, как и каждая др. душа, получившая в удел ей принадлежащее, любит отдаваться время от времени созерцанию этого истинного бытия, находя в этом свою пищу и блаженство... Здесь душа созерцает самое справедливость, самое мудрость, само знание; не то знание, различное в различных предметах, кот. мы называем существующими, но знание, познающее истинное бытие в нем самом, то, что представляет собою истинное, действительное бытие» (Phaedrus, 247 С – Е). Таково царствие чистых норм – здесь говорится о норме справедливости, норме мудрости, норме, идеале знания.
Но это царство идеала заключает в себе не одни моральные нормы человеческой деятельности. Оно составляет предмет чистого духовного созерцания, бесплотного ведения, в котором снимаются границы человеческого и божественного. Оно объемлет в себе нормы всего сущего.
Мышление и слово
1. Мышление = язык
Характерно, что при этом Платон нигде не отрывает аспекта понимания, познания, от акта называния, именования. То, что невозможно воплотить в речи, в слове, является алогичным (ajlovgon), т.е. непознаваемым. Поэтому анализ познавательных структур у Платона оказывается неотделимым от анализа речи, структуры языка – это основные логические, логосные структуры мысли. (см. «Теэтет», 201 с – 210 d). Именно анализ языка дает Платону толчок к уразумению природы мышления как со-отнесения единого и многого.
Эта любовь Платона к слову и совершающееся в этой любви об-наружение человеческого логоса позже дала повод христианским апологетам отнести его к числу “христиан до Христа”, полагая, что его коснулась благодать Логоса.
«Все, что когда-либо сказано и открыто философами и законодателями, все это ими сделано соответственно мере нахождения ими и созерцания Слова, а так как они не знали всех свойств Слова, Которое есть Христос, то часто говорили даже противное самим себе, – говорит св. Ириней Лионский. – И всякий из них говорил прекрасно потому именно, что познавал отчасти сродное с посеянным Словом Божиим. А те, которые противоречили сами себе в главнейших предметах, очевидно, не имели твердого ведения и неопровержимого познания. Итак, все, что сказано кем-нибудь хорошего, принадлежит нам христианам. Ибо мы, после Бога, почитаем и любим Слово нерожденного и неизреченного Бога, потому что Оно также ради нас сделалось человеком, чтобы сделаться причастным нашим страданиям и доставить нам исцеление. Все те писатели посредством врожденного семени слова могли видеть истину, но темно. Ибо иное дело семя и некоторое подобие чего-либо, данное по мере приемлемости; а иное то самое, чего причастие и подобие даровано по Его благодати».
Итак, благодаря переключению внимания с природы на человека, его сознание и язык, – переключению, осуществленному софистами и Сократом, – Платон смог осуществить переход к анализу логических связей, «связей смыслов» с тем, чтобы потом от них вновь вернуться к анализу «связей вещей».
2. Учение об именах (диалог «Кратил»)
Кратил говорит: «разве в имени есть что-то другое, нежели договор и соглашение. Мне кажется, какое имя кто чему-либо установит, такое и будет правильным. Правда, если он потом установит другое, а тем, прежним, именем больше не станет это называть, то новое имя будет ничуть не менее правильным, нежели старое; ведь когда мы меняем имена слугам, вновь данное имя не бывает же менее правильным, чем данное прежде. Ни одно имя никому не врождено от природы, оно зависит от закона и обычая тех, кто привык что-либо с так называть».
Однако Сократ выступает с критикой такой теории условного происхождения имен. Давать имена нужно так, как в соответствии с природой вещей следует их давать и получать, и с помощью того, что для этого природою предназначено, а не так, как нам заблагорассудится, если, конечно, мы хотим, чтобы это согласовалось с нашим прежним рассуждением. Не каждому человеку дано устанавливать имена, но лишь такому, кого мы назвали бы творцом имен. Он же, видимо, и есть законодатель, а уж этот-то из мастеров реже всего объявляется среди людей. – Законодатель должен уметь воплощать в звуках и слогах имя, причем то самое, какое в каждом случае назначено от природы. Создавая и устанавливая всякие имена, он должен также обращать внимание на то, что представляет собою имя как таковое, коль скоро он собирается стать полновластным учредителем имен. И если не каждый законодатель воплощает имя в одних и тех же слогах, это не должно вызывать у нас недоумение. Ведь и не всякий кузнец воплощает одно и то же орудие в одном и том же железе: он делает одно и то же орудие для одной и той же цели; и пока он воссоздает один и тот же образ, пусть и в другом железе, это орудие будет правильным, сделает ли его кто-то здесь или у варваров. – Не такое уж это ничтожное дело – установление имени, и не дело людей неискусных или случайных. И Кратил прав, говоря, что имена у вещей от природы и что не всякий мастер имен, а только тот, кто обращает внимание на присущее каждой вещи по природе имя и может воплотить этот образ в буквах и слогах.
[Вопрос о правильности имен] Гомер говорил об именах во мн. местах. А больше и лучше всего там, где он различает, какими именами одни и те же вещи называют люди и какими боги. Как раз здесь им сказано нечто великое и удивительное по поводу правильности имен. Ведь совершенно ясно, что уж боги-то называют вещи правильно – теми именами, что определены от природы. – Разве ты не знаешь, что тот поток в Трое, который единоборствовал с Гефестом, боги, по словам Гомера, называют Ксанфом, а люди – Скамандром? Не находишь ли ты, что очень важно знать, почему, собственно, более правильно этот поток называть Ксанфом, нежели Скамандром? Или если угодно, почему Гомер говорит о птице: В сонме бессмертных слывущей халкидой, у смертных – киминдой. Пустая, по-твоему, будет наука о том, насколько правильнее одной и той же птице называться халкидой, нежели киминдой? Так вот здесь легче определить, на какую правильность этих имен указывает Гомер. Ты ведь, конечно, знаешь стихи, в которых заключается то, о чем я говорю? Не произвольно устанавливается каждое имя, а в соответствии с некоей правильностью. Сократ. Что же? Ты полагаешь, далек был от этой мысли Гераклита тот, кто установил прародителям всех остальных богов имена Реи и Кроноса? Или, по-твоему, у Гераклита случайно, что имена обоих означают течение? Да и Гомер в свою очередь указывает на происхождение всех богов от Океана и "матери Тефии". Думаю, что и Гесиод тоже… Имена не могли бы стать чему-то подобными, если бы не существовало начал, содержащих какую-то исконную правильность, из которых составляются имена для тех вещей, которым они подражают.
Гносеологические проблемы
1. Вещи причастны идеям
Весь чувственный мир, по Платону, состоит из материи и идей. Материя без идеи есть небытие. Реальным, истинным, подлинным бытием обладает лишь идея. И мир идей, в котором существуют идеи всех предметов, понятий и явлений, т.е. и того, что не относится к предметам (идея любви, движения, покоя и т.д.), гораздо более многообразен, чем мир материальный. Этот мир идей является истинным бытием, и предметы существуют потому, что они причастны к миру идей. Мы знаем, что истина неизменна и вечна. Поэтому мир идей – это мир вечный, неизменный, т.е. божественный. А поскольку вещь состоит из материи и идеи, то бытие самой чувственной вещи не является истиной, это кажущееся, мнимое бытие, и знание о ней – это уже не знание, а мнение. – Отличие идеи от чувственного мира состоит в том, как говорит Платон в диалоге «Федон», что все телесное состоит из частей, подвержено тлению, изменяется и т.д., идея же божественна, вечна, неизменна, истинна, действительно существует. Именно в этом различие между идеей и чувственным миром.
Идей существует огромное множество. И вещь существует благодаря причастности не некоторой одной идее, а множеству различных идей. Если мы говорим о человеке, то понимаем, что он причастен, во-первых, идее человека, во-вторых, идее животного, в-третьих, у него есть руки, ноги и т.п., поэтому у каждой части тела есть своя идея и т.д. Камень причастен идее камня, идее серости, идее тяжести, с которой он притягивается к земле, идее твердости, идее гранита или мрамора. Совокупность идей, объединяющихся вместе с материей, дает многообразие и предметам.
По этому поводу у самого Платона часто возникали вопросы, на которые он не мог ответить. Однако, Платон не мог и не хотел уходить от этих вопросов, и вот такой спор с самим собой он доносит нам в диалоге «Парменид». – В начале диалога Сократ беседует с Парменидом и излагает ему вкратце суть своей теории идей. На что Парменид спрашивает: «А существует ли идея огня, воды, т. е. идея первоэлементов, стихий?» Сократ затрудняется ответить. «А существует ли идея грязи, идея сора или идея такой мелочи, как волосы?» Сократ уже более определенно отвечает, что нет, нет идеи грязи или сора. Далее Парменид еще больше развивает свои нападки на теорию идей. И говорит, что это учение противоречиво, ибо получается, что одной идее причастны сразу множество вещей: скажем, множество деревьев причастны одной идее дерева. Следовательно, идея должна делиться на части, чтобы быть одновременно во множестве вещей. На это Сократ с легкостью возражает, что день тоже существует одновременно в разных уголках земли и тем не менее не перестает от этого быть одним днем. – Далее, говорит Парменид, есть идея великого, но предмет, чтобы быть великим, должен быть причастен не только идее великого, но сама идея великого должна стать идеей великого и поэтому должна быть причастна некоей идее великости. Не уводит ли это нас в некоторую бесконечность? Далее Парменид говорит Сократу, что если вещь причастна своей идее, то, по всей видимости, должна быть некоторая идея причастности вещи своей идее? И эту иерархию мы тоже можем строить до бесконечности. На все эти аргументы Сократ не дает ответа.
2. Проблема наличия заблуждений
Другая проблема – это проблема существования заблуждений. Если в каждом человеке есть идея – носитель истины, а существует она в каждом человеке, умен он или глуп, откуда возникает заблуждение? По Платону, если истина есть некоторое знание о том, что существует, т. е. о бытии, то заблуждение – это знание о том, что не существует, т. е. знание о небытии. Поэтому, утверждает Платон в диалоге «Софист», человек, который ошибается или намеренно утверждает ложь, познает небытие. Но и здесь возникает затруднение, ведь небытие не существует, а существуют лишь идеи, т. е. бытие. Поэтому перед Платоном стоит сложная задача показать, что небытие все же неким образом существует. Платон для этого исследует понятие бытия. Бытие существует, с одной стороны, в виде покоя, а с другой – в виде движения. Само по себе движение не есть бытие, так же, как и покой сам по себе не есть бытие. Поэтому все, что в мире существует, должно быть причастно идее движения, идее покоя и идее бытия. Но, кроме этих трех идей, должна быть еще идея тождественного и иного, т.е. движение есть движение благодаря тому, что причастно идее тождественного. А движение не есть покой, потому что причастно идее иного. Поэтому в мире все причастно 5 идеям: бытия, движения, покоя, тождественного и иного. Каждая вещь отличается от другой вещи, потому что она причастна не только идее этой вещи, но и идее иного, и это иное, т.е. то, что отличает одну вещь от другой, и есть некоторым образом небытие. Вещь причастна одновременно и идее бытия, и идее иного, поэтому инаковость вещи по отношению к другой вещи и есть то небытие, которое существует в нашем мире. Заблуждения возникают в том случае, когда мы приписываем себе знание об одной вещи – другой вещи, т. е. неким образом познаем небытие.
3. Теодицея Платона
Тесно связана с этой проблемой и проблема существования в мире зла. Проблема теодицеи перед Платоном стоит уже во всей своей полноте. Проблема впервые встречается еще у Гераклита, для Платона же она становится очень насущной проблемой. Платон утверждает, что все в мире существует потому, что причастно своим начале идеям и в конце концов – Идее блага. Поэтому получается, что и зло также должно иметь свою – благую! – идею.
Но, конечно же, Платон подобный вариант решения отвергает, и в «Пармениде» мы видим, что он отрицает идею грязи и идею сора. Поэтому зло возникает не вследствие того, что существует идея зла. Мир идей идеален не только с онтологической, но и с нрав. точки зрения, поэтому зло среди людей существует потому, что человек не знает идею добра, оттого, что человек направляет свои познавательные и иные способности не на истинный мир, а на мир мнимый, мир вещей. Познавая мир мнимый и обращая на него все свое вниман
е, человек уходит от истины и, значит, уходит от блага. Поэтому зло существует в мире оттого, что человек отворачивается от блага, направляя свою познавательную способность и способность действовать в др. сторону. Ответ чрезвычайно близкий к христианскому, согласно которому зло тоже не существует как некоторая онтологическая сущность, зло возникает в результате отпадения, отворачивания человека от Бога.
Но в конце концов Платон делает вывод, что зло существует, потому что человек направляет свои способности на чувственный мир, то именно в этом чувственном мире Платон и видит причину зла. Не в человеке, не в его свободном выборе, в отказе от познания идей, но в самом чувственном мире и в конце концов в материи – в небытии. Так же, как источником заблуждений является в конце концов материальная составляющая нашего мира (ведь причастность идее иного необходима лишь для чувственных, индивидуальных вещей), то и источником зла является материя, для человека – его тело. Этот вывод Платона будет часто проникать в форме различных ересей и в христианство. Так, и гностики, и манихеи, и в некоторой степени Ориген будут видеть именно в материи, и в частности – в теле причину зла в мире.
1.С. Н. Трубецкой «Курс истории древней философии»
2.В.С.Соловьев - Теоретическая философия
3. И другие
Опубликовано на сайте:
Жизнь Платона
Платон родился в Афинах, его настоящее имя – Аристокл. Платон ("широкоплечий") – прозвище, которому он обязан своим мощным торсом. Философ происходил из знатного рода, получил хорошее образование, в возрасте около 20 лет стал учеником Сократа. Сначала Платон готовил себя к политической деятельности, после смерти своего учителя, он покинул Афины и много путешествовал, главным образом, по Италии. Разочаровавшись в политике и чуть не попав в рабство, Платон возвращается в Афины, где и создает свою знаменитую школу – Академию (она располагается в роще, посаженной в честь греческого героя Академа), которая просуществовала более 900 лет. Обучали здесь не только философии и политике, но и геометрии, астрономии, географии, ботанике, каждый день проводились гимнастические занятия. Обучение основывалось на лекциях, дискуссиях и совместных беседах. Почти все произведения, дошедшие до нас, написаны в форме диалога, главным персонажем которого является Сократ, выражающий взгляды самого Платона.
Основные философские труды Платона
«Апология Сократа», «Менон», «Пир», «Федр», «Парменид», «Государство», «Законы».
Философия Платона
Основным вопросом досократовской философии была разработка натурфилософии, проблема поиска первоначала, попытка объяснить происхождение и существование мира. Предшествующие философы понимали природу и космос как мир вещей видимых и чувственно воспринимаемых, но так и не смогли объяснить мир с помощью причин, в основе которых лежат только «стихии» или их свойства (вода, воздух, огонь, земля, горячее, холодное, разряжение и т.п.).
Заслуга Платона заключается в том, что он вносит новый исключительно рациональный взгляд на объяснение и познание мира, приходит к открытию другой реальности – сверхчувственного, надфизического, умопостигаемого пространства. Это приводит к пониманию двух планов бытия: феноменального, видимого, и невидимого, метафизического, улавливаемого исключительно интеллектом; тем самым Платон впервые подчеркивает самоценность идеального.
С этих пор происходит размежевание философов на материалистов, для которых истинным бытием является материальный, чувственно воспринимаемый мир (линия Демокрита), и идеалистов, для которых истинное бытие – нематериальный, сверхчувственный, надфизический, умопостигаемый мир (линия Платона).
Философия Платона носит характер объективного идеализма, когда за первооснову сущего принимается безличный универсальный дух, надиндивидуальное сознание.
Теория идей
Мир идей Платона
Истинные причины вещей Платон видит не в физической реальности, а в умопостигаемом мире и называет их «идеями», или «эйдосами». Вещи материального мира могут меняться, рождаются и умирают, а вот их причины должны быть вечными и неизменными, должны выражать сущность вещей. Главный тезис Платона заключается в том, что «…вещи можно видеть, но не мыслить, идеи же, напротив, можно мыслить, но не видеть».
Идеи представляют собой всеобщее, в отличие от единичных вещей – и только всеобщее, по мнению Платона, достойно познания. Этот принцип распространяется на все предметы исследования, но в своих диалогах Платон большое внимание уделяет рассмотрению сущности прекрасного. В диалоге «Гиппий Больший» описан спор о прекрасном между Сократом, представляющим точку зрения Платона, и софистом Гиппием, который изображен простоватым, даже глуповатым человеком. На вопрос: «Что такое прекрасное?», Гиппий приводит первый пришедший на ум частный случай и отвечает, что это прекрасная девушка. Сократ говорит, что тогда надо признать прекрасным и прекрасного коня, и прекрасную лиру и даже прекрасный горшок, но все эти вещи прекрасны лишь в относительном смысле. «Или ты не в состоянии вспомнить, что я спрашивал о прекрасном самом по себе, которое все, к чему бы оно ни присоединилось, делает прекрасным, – и камень, и дерево, и человека, и бога, и любое деяние, любое знание». Речь идет о таком прекрасном, которое «никогда, никому и нигде не могло бы показаться безобразным», о том, «что есть прекрасное для всех и всегда». Понятое в этом смысле прекрасное и есть идея, или вид, или эйдос.
Можно сказать, что идея – сверхчувственная причина, образец, цель и прообраз всех вещей, источник их реальности в этом мире. Платон пишет: «…идеи пребывают в природе как бы в виде образцов, прочие же вещи сходны с ними и суть их подобия, самая же причастность вещей идеям заключается не в чем ином, как только в уподоблении им».
Таким образом, можно выделить основные признаки идей:
- вечность
- неизменность
- объективность
- безотносительность
- независимость от чувств
- независимость от условий пространства и времени
Структура идеального мира.
Платон понимает мир идей как иерархически организованную систему, в которой идеи отличаются друг от друга степенью общности. Идеи нижнего яруса – в него входят идеи естественных, природных вещей, идеи физических явлений, идеи математических формул – подчинены более высоким идеям. Высшими и более ценными идеями являются те, которые призваны объяснить человеческое бытие – идеи прекрасного, истины, справедливости. На вершине иерархии находится идея Блага, которая является условием всех остальных идей и необусловлена никакой другой; это цель, к которой стремятся все вещи и все живые существа. Таким образом, идея Блага (в других источниках Платон её называет «Единым») свидетельствует о единстве мира и его целесообразности.
Мир идей и мир вещей
Мир идей, по Платону, – мир истинносущего бытия. Ему противопоставляется мир небытия – это материя, беспредельное начало и условие пространственного обособления множественности вещей. Оба эти начала одинаково необходимы для существования мира вещей, но первенство отдается миру идей: не будь идей, не было бы и материи. Мир же вещей, чувственный мир, есть порождение мира идей и мира материи, то есть бытия и небытия. Таким разделением Платон подчеркивает, что сфера идеального, духовного имеет самостоятельную ценность.
Каждая вещь, будучи причастна к миру идей, есть подобие идеи с её вечностью и неизменностью, а материи вещь «обязана» своей делимостью и обособленностью. Таким образом, мир чувственных вещей соединяет в себе две противопо-ложности и находится в области становления и развития.
Идея как понятие. Помимо онтологического смысла, идея Платона рассматривается и в плане познания: идея есть и бытие, и мысль о нем, а значит соответствующее бытию понятие о нем. В этом гносеологическом смысле идея Платона есть общее, или родовое, понятие о сущности мыслимого предмета. Таким образом, он затрагивает важную философскую проблему формирования общих понятий, которые выражают сущность вещей.
Диалектика Платона.
В своих трудах Платон диалектику называет наукой о сущем. Развивая диалектические идеи Сократа, он понимает диалектику как соединение противоположностей, и превращает её в универсальный философский метод.
В деятельности активной мысли, лишенной чувственного восприятия, Платон выделяет «восходящий» и «нисходящий» пути. «Восхождение» заключается в том, чтобы двигаться вверх от идеи к идее, вплоть до самой высшей, отыскивая единое во многом. В диалоге «Федр» он рассматривает это как обобщающую «…способность, охватывая все общим взглядом, возводить к единой идее то, что повсюду разрозненно…». Коснувшись этого единого начала, ум начинает двигаться «нисходящим» путем. Он представляет собой способность все разделять на виды, идя от более общих к частным идеям. Платон пишет: «…это, наоборот, способность разделять все на виды, на естественные составные части, стараясь при этом не раздробить ни одной из них, как это бывает у дурных поваров…». Эти процессы Платон и называет «диалектикой», а философ, по определению, есть «диалектик».
Платоновская диалектика охватывает различные сферы: бытия и небытия, тождественного и иного, покоя и движения, единого и многого. В своем диалоге «Парменид» Платон вы-ступает против дуализма идеи и вещи и доказывает, что если идеи вещей отделены от самих вещей, то вещь, не содержащая в себе никакой идеи самой себя, не может содержать никаких признаков и свойств, то есть перестанет быть самой собой. Кроме того, он рассматривает принцип идеи как какое бы то ни было одно, а не только как сверхчувственное единое, а принцип материи как какое бы то ни было иное в сравнении с одним, а не только как материальный чувственный мир. Таким образом, диалектика одного и иного оформляется у Платона в предельно обобщенную диалектику идеи и материи.
Теория познания Платона
Платон продолжает начатые его предшественниками размышления о природе знания и разрабатывает собственную теорию познания. Он определяет место философии в познании, которая находится между полным знанием и незнанием. По его мнению, философия как любовь к мудрости невозможна ни для того, кто уже обладает истинным знанием (боги), ни для того, кто ничего не знает. Согласно Платону, философ – тот, кто стремится восходить от менее совершенного знания к более совершенному.
При разработке вопроса о знании и его видах Платон исходит из того, что виды знания должны соответствовать видам, или сферам, бытия. В диалоге «Государство» он разделяет знание на чувственное и интеллектуальное, каждое из которых, в свою очередь, делится на два вида. Чувственное знание состоит из «веры» и «подобия». Посредством «веры» мы воспринимаем вещи в качестве существующих, а «подобие» – это некоторое представление вещей, мыслительное построение, основывающееся на «вере». Знание такого рода не является истинным, и Платон называет его мнением, которое не есть ни знание, ни незнание и находится между ними обоими.
Интеллектуальное знание доступно лишь тому, кто любит созерцать истину, и делится на мышление и рассудок. Под мышлением Платон понимает деятельность ума, непосредственно созерцающую интеллектуальные предметы. В сфере рассудка познающий тоже пользуется умом, но для того, чтобы понимать чувственные вещи как образы. Интеллектуальный вид знания – это познавательная деятельность людей, которые рассудком созерцают сущее. Таким образом, чувственные вещи постигаются посредством мнения, и по отношению к ним знание невозможно. Посредством знания постигаются лишь идеи, и только в отношении них возможно знание.
В диалоге «Менон» Платон развивает учение о припоминании, отвечая на вопрос о том, каким образом мы знаем то, что знаем, или как познавать то, чего не знаем, ибо мы должны иметь предварительное знание о том, что собираемся познавать. Диалог между Сократом и необразованным рабом приводит к тому, что Сократ, задавая ему наводящие вопросы, открывает в рабе способность отвлечься от мира явлений и возвысится до абстрактных математических «идей». Это означает, что душа познает всегда, так как она бессмертна, а, соприкоснувшись с чувственным миром, начинает припоминать уже известные ей сущности вещей.
Учение Платона об идеальном государстве
Платон уделяет большое внимание развитию взглядов на общество и государство. Он создает теорию идеального государства, принципы которого подтверждены историей, но остаются неосуществимыми до конца как любой идеал.
Платон считает, что государство возникает тогда, когда человек не может удовлетворить самостоятельно свои потребности, и нуждается в помощи других. Философ пишет: «Государство возникает, как я полагаю, когда каждый из нас не может удовлетворить сам себя, но нуждается еще во многом». Человеку, прежде всего, необходимы пища, одежда, жилье и услуги тех, кто это производит и поставляет; затем люди нуж-даются в защите и охране и, наконец, в тех, кто умеет практически управлять.
В таком принципе разделения труда Платон видит фундамент всего современного ему общественного и государственного устройства. Являясь основным принципом построения государства, разделение труда также лежит в основе разделения общества на различные сословия:
- 1. крестьяне, ремесленники, купцы
- 2. стражи
- 3. правители
Но для Платона важным является не только разделение, основанное на профессиональных особенностях, но и нравственные качества, присущие соответствующим разрядам граждан государства. В этой связи он выделяет добродетели, или доблести совершенного государства:
1. Первый класс образован из людей, у которых преобладает вожделеющая часть души, то есть наиболее элементарная, поэтому они должны поддерживать дисциплину желаний и наслаждений, обладать добродетелью умеренности.
2. У людей второго сословия преобладает волевая часть души, их профессия требует особого воспитания и специальных знаний, поэтому главная доблесть воинов-стражей – мужество.
3. Правителями могут быть те, у кого преобладает рациональная часть души, кто способен исполнить свой долг с наибольшим усердием, кто умеет познавать и созерцать Благо, и наделен высшей добродетелью – мудростью. Платон выделяет также четвертую доблесть – справедливость – это гармония, которая воцаряется между тремя другими добродетелями, и реализует её каждый гражданин любого сословия, понимая свое место в обществе и исполняя свое дело наилучшим образом.
Итак, совершенное государство – это когда три разряда граждан составляют гармоничное целое, а управляют государством немногие люди, наделенные мудростью, то есть философы. «Пока в государствах, – говорит Платон, – не будут либо царствовать философы, либо так называемые нынешние цари и владыки не станут благородно и основательно философствовать и это не сольется воедино, государственная власть и философия, и пока не будут в обязательном порядке отстранены те люди – а их много, – которые ныне стремятся порознь либо к власти, либо к философии, до тех пор государствам не избавиться от зол…».
Итак, Платон:
- является основателем объективного идеализма
- впервые подчеркивает самоценность идеального
- создает учение о единстве и целесообразности мира, в основе которого лежит сверхчувственная, умопостигаемая реальность
- вносит рациональный взгляд на объяснение и познание мира
- рассматривает философскую проблему формирования понятий
- превращает диалектику в универсальный философский метод
- создает учение об идеальном государстве, уделяя большое внимание нравственным качествам граждан и правителей
Чужеземец. Того же, однако, о чем я и прежде недоумевал, а именно к какому из обоих искусств дóлжно отнести софиста, я и теперь еще не могу ясно видеть: dчеловек этот поистине удивителен, и его весьма затруднительно наблюдать; он и в настоящее время очень ловко и хитро укрылся в трудный для исследования вид [искусства] .
Теэтет. Кажется, да.
Чужеземец. Но ты сознательно ли соглашаешься с этим, или же тебя, по обыкновению, увлекла к поспешному соглашению некая сила речи?
Теэтет. К чему ты это сказал?
Чужеземец. В действительности, мой друг, мы стоим перед безусловно трудным вопросом. Ведь являться и казаться и вместе с тем не быть, а также говорить что-либо, что не было бы истиной, – eвсе это и в прежнее время вызвало много недоумений, и теперь тоже. В самом деле, каким образом утверждающий, что вполне возможно говорить или думать ложное, высказав это, не впадает в противоречие, постигнуть, дорогой Теэтет, во всех отношениях трудно.
237Теэтет. Как так?
Чужеземец. Это смелое утверждение: оно предполагало бы существование небытия; ведь в противном случае и самая ложь была бы невозможна. Великий Парменид [19 ], мой мальчик, впервые, когда мы еще были детьми, высказал это и до самого конца не переставал свидетельствовать о том же, постоянно говоря прозою или стихами:
Этого нет никогда и нигде, чтоб не-сущее было; Ты от такого пути испытаний сдержи свою мысль [20 ].
bИтак, Парменид свидетельствует об этом, и, что важнее всего, само упомянутое утверждение при надлежащем исследовании его раскрыло бы то же. Рассмотрим, следовательно, именно этот вопрос, если ты не возражаешь.
Теэтет. По мне, направляйся куда хочешь, относительно же нашего рассуждения смекни, каким путем его лучше повести, и следуй этим путем сам, да и меня веди им же.
Чужеземец. Да, так именно и нужно поступать. И вот ответь мне: отважимся ли мы произнести "полное небытие"?
Теэтет. Отчего же нет?
Чужеземец. Если бы, таким образом, кто-либо из слушателей не для спора и шутки, но со всей серьезностью должен был ответить, к чему следует относить это выражение – "небытие", cто чтó мы подумали бы: в применении к чему и в каких случаях говорящий и сам воспользовался бы этим выражением, и указал бы на него тому, кто спрашивает?
Теэтет. Ты ставишь трудный и, можно сказать, именно для меня почти совершенно неразрешимый вопрос.
Чужеземец. Но по крайней мере, ясно хоть то, что небытие не должно быть отнесено к чему-либо из существующего.
Теэтет. Как же иначе?
Чужеземец. А если, стало быть, не к существующему, то не будет прав тот, кто отнесет небытие к чему-либо.
Теэтет. Как так?
dЧужеземец. Но ведь для нас, видимо, ясно, что само выражение "что-либо" мы относим постоянно к существующему. Брать его одно, само по себе, как бы голым и отрешенным от существующего, невозможно. Не так ли?
Теэтет. Невозможно.
Чужеземец. Подходя таким образом, согласен ли ты, что, если кто говорит о чем-либо, тот необходимо должен говорить об этом как об одном?
Теэтет. Да.
Чужеземец. Ведь "что-либо", ты скажешь, обозначает одно, "оба" – два и, наконец, "несколько" обозначает множество.
Теэтет. Как же иначе?
eЧужеземец. Следовательно, говорящий не о чем-либо, как видно, по необходимости и вовсе ничего не говорит.
Теэтет. Это в высшей степени необходимо.
Чужеземец. Не должно ли поэтому допустить и то, что такой человек пусть и ведет речь, однако ничего не высказывает? Более того, кто пытался бы говорить о небытии, того и говорящим назвать нельзя?
Теэтет. В таком случае наше рассуждение стало бы предельно затруднительным.
238Чужеземец. Не говори так решительно. Имеется, дорогой мой, еще одно затруднение, весьма сильное и существенное. И оно касается самогó исходного начала вопроса.
Теэтет. Что ты имеешь в виду? Скажи, не мешкая.
Чужеземец. Соединимо ли с бытием что-либо другое существующее?
Теэтет. Отчего же нет?
Чужеземец. А сочтем ли мы возможным, чтобы к небытию когда-либо присоединилось что-нибудь из существующего?
Теэтет. Как это?
Чужеземец. Всякое число ведь мы относим к области бытия?
bТеэтет. Если только вообще что-нибудь следует признать бытием.
Чужеземец. Так нам поэтому не дóлжно и пытаться прилагать к небытию числовое множество или единство.
Теэтет. Разумеется, согласно со смыслом нашего рассуждения, эта попытка была бы неправильна.
Чужеземец. Как же кто-либо смог бы произнести устами или вообще охватить мыслью несуществующие вещи или несуществующую вещь без числа?
Теэтет. Ну скажи, как?
Чужеземец. Когда мы говорим "несуществующие вещи", то не пытаемся ли мы прилагать здесь множественное число?
cТеэтет. Как же иначе?
Чужеземец. Если же мы говорим "несуществующая вещь", то, напротив, не единственное ли это число?
Теэтет. Ясно, что так.
Чужеземец. Однако же мы признаем несправедливой и неправильной попытку прилагать бытие к небытию.
Теэтет. Ты говоришь весьма верно.
Чужеземец. Понимаешь ли ты теперь, что небытие само по себе ни произнести правильно невозможно, ни выразить его, ни мыслить и что оно непостижимо, необъяснимо, невыразимо и лишено смысла?
Теэтет. Конечно.
dЧужеземец. Значит, я ошибся, когда утверждал недавно, что укажу на величайшее затруднение относительно него? Ведь мы можем указать другое, еще большее.
Теэтет. Какое именно?
Чужеземец. Как же, чудак! Или ты не замечаешь из сказанного, что и того, кто возражает против него, небытие приводит в такое затруднение, что, кто лишь примется его опровергать, бывает вынужден сам себе здесь противоречить?
Теэтет. Как ты говоришь? Скажи яснее.
eЧужеземец. А по мне вовсе не стоит это яснее исследовать. Ведь, приняв, что небытие не должно быть причастно ни единому, ни многому, я, несмотря на это, все же назвал его "единым", так как говорю "небытие". Смекаешь ли?
Теэтет. Да.
Теэтет. Слежу. Как же иначе?
239Чужеземец. Но, пытаясь связать бытие [с небытием], не высказал ли я чего-то противоположного прежнему?
Теэтет. Кажется
Теэтет. Да.
Чужеземец. Ведь, называя небытие лишенным смысла, необъяснимым и невыразимым, я как бы относил все это к чему-то единому.
Теэтет. Как же иначе?
Чужеземец. А мы утверждаем, что тот, кто пожелал бы правильно выразиться, не должен определять небытие ни как единое, ни как многое и вообще не должен его как-то именовать. Ведь и через наименование оно было бы обозначено как вид единого.
Теэтет. Без сомнения.
bЧужеземец. Так что же сказать тогда обо мне? Ведь пожалуй, я и прежде и теперь могу оказаться разбитым в моих обличениях небытия. Поэтому, как я уже сказал, не будем в моих словах искать правды о небытии, но давай обратимся к твоим.
Теэтет. Что ты говоришь?
Чужеземец. Ну, постарайся напрячь свои силы как можно полнее и крепче – ты ведь еще юноша – и попытайся, не приобщая ни бытия, ни единства, ни множества к небытию, высказать о нем что-либо правильно.
cТеэтет. Поистине странно было бы, если бы я захотел попытаться это сделать, видя твою неудачу.
Чужеземец. Ну, если тебе угодно, оставим в покое и тебя и меня. И пока мы не нападем на человека, способного это сделать, до тех пор будем говорить, что софист как нельзя более хитро скрылся в неприступном месте.
Теэтет. Это вполне очевидно.
Чужеземец. Поэтому если мы будем говорить, что он занимается искусством, творящим лишь призрачное, то, придравшись к этому словоупотреблению, он легко обернет наши слова в противоположную сторону, dспросив нас, что же мы вообще подразумеваем под отображением (εΐδωλον), называя его самого творцом отображений? Поэтому, Теэтет, надо смотреть, чтó ответить дерзкому на этот вопрос.
Теэтет. Ясно, что мы укажем на отображения в воде и зеркале, затем еще на картины и статуи и на все остальное в этом же роде.
eЧужеземец. Очевидно, Теэтет, софиста ты еще и не видел.
Теэтет. Как так?
Чужеземец. Тебе покажется, что он либо жмурится, либо совсем не имеет глаз.
Теэтет. Почему?
Чужеземец. Когда ты дашь ему такой вот ответ, указывая на изображения в зеркалах и на изваяния, он посмеется над твоими объяснениями, так как ты станешь беседовать с ним как со зрячим, 240а он притворится, будто не знает ни зеркал, ни воды, ни вообще ничего зримого, и спросит тебя только о том, что следует из объяснений.
Теэтет. Но что же?
Чужеземец. Надо сказать, чтó обще всем этим вещам, которые ты считаешь правильным обозначить одним названием, хотя назвал их много, и именуешь их все отображением, как будто они есть нечто одно. Итак, говори и защищайся, ни в чем не уступая этому мужу.
Теэтет. Так что же, чужеземец, можем мы сказать об отображении, кроме того, что оно есть подобие истинного, такого же рода иное?
bЧужеземец. Считаешь ли ты такого же рода иное истинным, или к чему ты относишь "такого же рода"?
Теэтет. Вовсе не истинным, но лишь ему подобным.
Чужеземец. Не правда ли, истинным ты называешь подлинное бытие?
Теэтет. Так.
Чужеземец. Что же? Неистинное не противоположно ли истинному?
Теэтет. Как же иначе?
Чужеземец. Следовательно, ты подобное не относишь к подлинному бытию, если только называешь его неистинным.
Теэтет. Но ведь вообще-то оно существует.
Чужеземец. Однако не истинно, говоришь ты.
Теэтет. Конечно нет, оно действительно есть только образ.
Чужеземец. Следовательно, то, что мы называем образом, не существуя действительно, все же действительно есть образ?
cТеэтет. Кажется, небытие с бытием образовали подобного рода сплетение, очень причудливое.
Чужеземец. Как же не причудливое? Видишь, из-за этого сплетения многоголовый [21 ] софист принудил нас против воли согласиться, что небытие каким-то образом существует.
Теэтет. Вижу, и очень даже.
Чужеземец. Что же теперь? С помощью какого определения его искусства придем мы в согласие с самими собой?
Теэтет. Почему ты так говоришь и чего ты боишься?
dЧужеземец. Когда мы утверждаем, что софист обманывает нас призраком и что искусство его обманчиво, не утверждаем ли мы этим, что наша душа из-за его искусства мнит ложное? Или как мы скажем?
Теэтет. Именно так. Что же другое мы можем сказать?
Теэтет. Да, противоположное.
Чужеземец. Ты говоришь, следовательно, что ложное мнение – это мнение о несуществующем?
Теэтет. Безусловно.
eЧужеземец. Представляет ли оно собой мнение о том, что несуществующего нет или что вовсе не существующее все-таки есть?
Теэтет. Несуществующее должно, однако, каким-то образом быть, если только когда-нибудь кто-то хоть в чем-то малом солжет.
Чужеземец. Что же? Не будет ли он также считать, что безусловно существующее вовсе не существует?
Теэтет. Да.
Чужеземец. И это тоже ложь?
Теэтет. И это.
Чужеземец. Следовательно, положение, что существующее не существует или что несуществующее существует, думаю, будет точно так же считаться ложным.
241Теэтет. Да и может ли оно быть иным?
Чужеземец. Вероятно, не может. Но этого софист не признает. И есть ли какой-нибудь способ толкнуть здравомыслящего человека на такую уступку, раз мы признали [в отношении небытия] то, о чем у нас шла речь раньше? Понимаем ли мы, Теэтет, что говорит софист?
Теэтет. Отчего же и не понять? Он скажет, что, дерзнув заявить, будто есть ложь и в мнениях, и в словах, мы противоречим тому, что недавно высказали. bВедь мы часто вынуждены связывать существующее с несуществующим, хотя недавно установили, что это менее всего возможно.
Чужеземец. Ты правильно вспомнил. Но пора уже принять решение, что же нам делать с софистом? Ты видишь, сколь многочисленны и как легко возникают возражения и затруднения, когда мы разыскиваем его в искусстве обманщиков и шарлатанов.
Теэтет. Да, очень даже вижу.
Чужеземец. Мы разобрали лишь малую часть их, между тем как они, так сказать, бесконечны.
cТеэтет. Как видно, схватить софиста невозможно, раз все это так.
Чужеземец. Что же? Отступим теперь из трусости?
Теэтет. Я полагаю, что не следует, если мы мало-мальски в силах его как-то поймать.
Чужеземец. Но ты будешь снисходителен и сообразно с только что сказанным удовольствуешься, если мы как-то мало-помалу выпутаемся из столь трудного рассуждения?
Теэтет. Отчего же мне не быть снисходительным?
dЧужеземец. А больше того прошу тебя о следующем.
Теэтет. О чем?
Чужеземец. Чтобы ты не думал, будто я становлюсь в некотором роде отцеубийцей.
Теэтет. Как так?
Чужеземец. Защищаясь, нам необходимо будет подвергнуть испытанию учение нашего отца Парменида и всеми силами доказать, что небытие в каком-либо отношении существует и, напротив, бытие каким-то образом не существует.
Теэтет. Очевидно, нечто подобное нам и придется отстаивать в рассуждении.
eЧужеземец. Да, по пословице, это видно и слепому [22 ]. Ведь пока это не отвергнуто нами или не принято, едва ли кто окажется в состоянии говорить о лживых словах и мнениях, – будет ли дело идти об отображениях, подражаниях и призраках или же обо всех занимающихся этим искусствах, – не противореча по необходимости самому себе и не становясь таким образом смешным.
Теэтет. Весьма справедливо.
242Чужеземец. Ради этого-то и придется посягнуть на отцовское учение или же вообще отступиться, если некий страх помешает нам это сделать.
Теэтет. Ничто не должно нас от этого удержать. Чужеземец. Теперь я еще и в-третьих буду просить тебя об одной малости. Теэтет. Ты только скажи.
Чужеземец. Недавно только я говорил, что всегда теряю надежду на опровержение всего этого, вот и теперь случилось то же.
Теэтет. Да, ты говорил.
bЧужеземец. Боюсь, чтобы из-за сказанного не показаться тебе безумным, после того как я вдруг с ног встану на голову. Однако ради тебя мы все же возьмемся за опровержение учения [Парменида], если только мы его опровергнем.
Теэтет. Так как в моих глазах ты ничего дурного не сделаешь, если приступишь к опровержению и доказательству, то приступай смело.
Чужеземец. Ну ладно! С чего же прежде всего начать столь дерзновенную речь? Кажется мне, мой пальчик, что нам необходимо направиться по следующему пути.
Теэтет. По какому же?
cЧужеземец. Прежде всего рассмотреть то, что представляется нам теперь очевидным, чтобы не сбиться с пути и не прийти легко к взаимному соглашению так, как будто нам все ясно.
Теэтет. Говори точнее, что ты имеешь в виду.
Чужеземец. Мне кажется, что Парменид, да и всякий другой, кто только когда-либо принимал решение определить, каково существующее количественно и качественно, говорили с нами, не придавая значения своим словам.
Теэтет. Каким образом?
Чужеземец. Каждый из них, представляется мне, рассказывает нам какую-то сказку, будто детям: один, что существующее – тройственно [23 ] и его части то враждуют друг с другом, то становятся дружными, dвступают в браки, рождают детей и питают потомков; другой, называя существующее двойственным – влажным и сухим или теплым и холодным, – заставляет жить то и другое вместе и сочетаться браком. Наше элейское племя, начиная с Ксенофана [24 ], а то и раньше, говорит в своих речах, будто то, что называется "всем", – едино. Позднее некоторые ионийские и сицилийские Музы [25 ] сообразили, что всего безопаснее объединить то и другое eи заявить, что бытие и множественно и едино и что оно держится враждою и дружбою. "Расходящееся всегда сходится", – говорят более строгие из Муз; более же уступчивые всегда допускали, что всё бывает поочередно то единым и любимым Афродитою, 243то множественным и враждебным с самим собою вследствие какого-то раздора. Правильно ли кто из них обо всем этом говорит или нет – решить трудно, да и дурно было бы укорять столь славных и древних мужей. Но вот что кажется верным...
Теэтет. Что же?
Чужеземец. А то, что они, свысока взглянув на нас, большинство, слишком нами пренебрегли. Нимало не заботясь, следим ли мы за ходом их рассуждений или же нет, каждый из них упорно твердит свое.
bТеэтет. Почему ты так говоришь?
Чужеземец. Когда кто-либо из них высказывает положение, что множественное, единое или двойственное есть, возникло или возникает и что, далее, теплое смешивается с холодным, причем предполагаются и некоторые другие разделения и смешения, то, ради богов, Теэтет, понимаешь ли ты всякий раз, что они говорят? Я, когда был помоложе, думал, что понимаю ясно, когда кто-либо говорил о том, чтó в настоящее время приводит нас в недоумение, именно о небытии. Теперь же ты видишь, в каком мы находимся по отношению к нему затруднении.
cТеэтет. Вижу.
Чужеземец. Пожалуй, мы испытываем такое же точно состояние души и по отношению к бытию, хотя утверждаем, что ясно понимаем, когда кто-либо о нем говорит, что же касается небытия (δάτερον), то не понимаем; между тем мы в одинаковом положении по отношению как к тому, так и к другому.
Теэтет. Пожалуй.
Чужеземец. И обо всем прочем, сказанном раньше, нам надо выразиться точно так же.
Теэтет. Конечно.
dЧужеземец. О многом мы, если будет угодно, поговорим и после, величайшее же и изначальное следует рассмотреть первым.
Теэтет. О чем, однако, ты говоришь? Ясно ведь, ты считаешь, что сначала надо тщательно исследовать бытие: чем оказывается оно у тех, кто берется о нем рассуждать?
Чужеземец. Ты, Теэтет, следуешь за мной прямо по пятам. Я говорю, что метод исследования нам надо принять такой, будто те находятся здесь и мы должны расспросить их следующим образом: "Ну-ка, вы все, кто только утверждает, что теплое и холодное или другое что-нибудь двойственное есть всё, – чтó β произносите вы о двух [началах бытия], eкогда говорите, будто существуют они оба вместе и каждое из них в отдельности? Как нам понимать это ваше бытие? Должны ли мы, по-вашему, допустить нечто третье кроме тех двух и считать всё тройственным, а вовсе не двойственным? Ведь если вы назовете одно из двух [начал] бытием, то не сможете сказать, что оба они одинаково существуют, так как в том и другом случае было бы единое [начало], а не двойственное".
Теэтет. Ты говоришь верно.
Чужеземец. "Или вы хотите оба [начала] назвать бытием?"
Теэтет. Может быть.
244Чужеземец. "Но, друзья, – скажем мы, – так вы весьма ясно назвали бы двойственное единым".
Теэтет. Ты совершенно прав.
Чужеземец. "Так как мы теперь в затруднении, то скажите нам четко, что вы желаете обозначить, когда произносите "бытие". Ясно ведь, что вы давно это знаете, мы же думали, что знаем, а теперь вот затрудняемся. Поучите сначала нас этому, чтобы мы не воображали, будто постигаем то, что вы говорите, тогда как дело обстоит совершенно наоборот" [26 ]. bТак говоря и добиваясь этого от них, а также от других, которые утверждают, что всё больше одного, неужели мы, мой мальчик, допустим какую-либо ошибку?
Теэтет. Менее всего.
Чужеземец. Как же? Не дóлжно ли у тех, кто считает всё единым, выведать по возможности, что называют они бытием?
Теэтет. Конечно.
Чужеземец. Пусть они ответят на следующее: "Вы утверждаете, что существует только единое?" "Конечно, утверждаем", – скажут они. Не так ли?
Теэтет. Да.
Теэтет. Да.
cЧужеземец. "То же ли самое, что вы называете. единым, пользуясь для одного и того же двумя именами? Или как?"
Теэтет. Что же они ответят после этого, чужеземец?
Чужеземец. Ясно, Теэтет, что для того, кто выдвигает такое предположение, не очень-то легко ответить как на этот, так и на любой другой вопрос.
Теэтет. Как так?
Чужеземец. Допускать два наименования, когда считают, что не существует ничего, кроме единого, конечно, смешно.
Теэтет. Как не смешно!
Чужеземец. Да и вообще согласиться с говорящим, что имя есть что-то, не имело бы смысла.
dТеэтет. Отчего?
Чужеземец. Кто допускает имя, отличное от вещи, тот говорит, конечно, о двойственном.
Теэтет. Да.
Чужеземец. И действительно, если он принимает имя вещи за то же, что есть она сама, он либо будет вынужден произнести имя ничего, либо если он назовет имя как имя чего-то, то получится только имя имени, а не чего-либо другого.
Теэтет. Так.
Чужеземец. И единое, будучи лишь именем единого, окажется единым лишь по имени.
Теэтет. Это необходимо.
eТеэтет. Как же они не признают, если и теперь признают?
Чужеземец. Если, таким образом, как говорит и Парменид,
Вид его [целого] массе правильной сферы всюду подобен, Равен от центра везде он, затем, что нисколько не больше, Как и не меньше идет туда и сюда по закону [27 ], –
если бытие именно таково, то оно имеет середину и края, а обладая этим, оно необходимо должно иметь части. Или не так?
Теэтет. Так.
245Чужеземец. Ничто, однако, не препятствует, чтобы разделенное на части имело в каждой части свойство единого и чтобы, будучи всем и целым, оно таким образом было единым [28 ].
Теэтет. Почему бы и нет?
Чужеземец. Однако ведь невозможно, чтобы само единое обладало этим свойством?
Теэтет. Отчего же?
Чужеземец. Истинно единое, согласно верному определению, должно, конечно, считаться полностью неделимым.
Теэтет. Конечно, должно.
bЧужеземец. В противном случае, то есть будучи составленным из многих частей, оно не будет соответствовать определению.
Теэтет. Понимаю.
Чужеземец. Будет ли теперь бытие, обладающее, таким образом, свойством единого, единым и целым, или нам вовсе не следует принимать бытие за целое?
Теэтет. Ты предложил трудный выбор.
Чужеземец. Ты говоришь сущую правду. Ведь если бытие обладает свойством быть как-то единым, то оно уже не будет тождественно единому и всё будет больше единого.
Теэтет. Да.
Теэтет. Истинно так.
Чужеземец. Согласно этому объяснению, бытие, лишаясь самого себя, будет уже небытием.
Теэтет. Так.
Чужеземец. И всё снова становится больше единого, если бытие и целое получили каждое свою собственную природу.
Теэтет. Да.
Чужеземец. Если же целое вообще не существует, то это же самое произойдет и с бытием, и ему предстоит не быть и никогда не стать бытием.
dТеэтет. Отчего же?
Чужеземец. Возникшее – всегда целое, так что ни о бытии, ни о возникновении нельзя говорить как о чем-либо существующем, если в существующем не признавать целого.
Теэтет. Кажется несомненным, что это так.
Чужеземец. И действительно, никакая величина не должна быть нецелым, так как, сколь велико что-нибудь – каким бы великим или малым оно ни было, – столь великим целым оно по необходимости должно быть.
Теэтет. Совершенно верно.
Чужеземец. И тысяча других вещей, каждая в отдельности, будет вызывать бесконечные затруднения у того, кто говорит, будто бытие либо двойственно, либо только едино.
eТеэтет. Это обнаруживает то, что и теперь почти уже ясно. Ведь одно влечет за собой другое, неся большую и трудноразрешимую путаницу относительно всего прежде сказанного.
Чужеземец. Мы, однако, не рассмотрели всех тех, кто тщательно исследует бытие и небытие, но довольно и этого. Дальше надо обратить внимание на тех, кто высказывается по-иному, дабы на примере всего увидеть, как ничуть не легче объяснить, что такое бытие, чем сказать, что такое небытие.
246Теэтет. Значит, надо идти и против этих.
Чужеземец. У них, кажется, происходит нечто вроде борьбы гигантов из-за спора друг с другом о бытии [29 ].
Теэтет. Как так?
Чужеземец. Одни все совлекают с неба и из области невидимого на землю, как бы обнимая руками дубы и скалы. Ухватившись за все подобное, они утверждают, будто существует только то, что допускает прикосновение и осязание, bи признают тела и бытие за одно и то же, всех же тех, кто говорит, будто существует нечто бестелесное, они обливают презрением, более ничего не желая слышать.
Теэтет. Ты назвал ужасных людей; ведь со многими из них случалось встречаться и мне.
Чужеземец. Поэтому-то те, кто с ними вступает в спор, предусмотрительно защищаются как бы сверху, откуда-то из невидимого, решительно настаивая на том, что истинное бытие – это некие умопостигаемые и бестелесные идеи; тела же, о которых говорят первые, cи то, чтó они называют истиной, они, разлагая в своих рассуждениях на мелкие части, называют не бытием, а чем-то подвижным, становлением. Относительно этого между обеими сторонами, Теэтет, всегда происходит сильнейшая борьба.
Теэтет. Правильно.
Чужеземец. Значит, нам надо потребовать от обеих сторон порознь объяснения, чтó они считают бытием.
Теэтет. Как же мы его будем требовать?
Чужеземец. От тех, кто полагает бытие в идеях, легче его получить, так как они более кротки, от тех же, dкто насильственно все сводит к телу, – труднее, да, может быть, и почти невозможно. Однако, мне кажется, с ними следует поступать так...
Теэтет. Как?
Чужеземец. Всего бы лучше исправить их делом, если бы только это было возможно; если же так не удастся, то мы сделаем это при помощи рассуждения, предположив у них желание отвечать нам более правильно, чем доселе. То, что признано лучшими людьми, сильнее того, что признано худшими. Впрочем, мы заботимся не о них, но ищем лишь истину.
eТеэтет. Весьма справедливо.
Чужеземец. Предложи же тем, кто стал лучше, тебе отвечать, и истолковывай то, что ими сказано.
Теэтет. Да будет так.
Чужеземец. Пусть скажут, как они полагают: есть ли вообще какое-либо смертное существо?
Теэтет. Отчего же нет?
Чужеземец. Не признают ли они его одушевленным телом?
Теэтет. Без сомнения.
Чужеземец. И считают душу чем-то существующим?
247Теэтет. Да.
Теэтет. Как же иначе?
Чужеземец. И не так ли они считают, что благодаря присутствию справедливости каждая душа становится такой-то, а из-за противоположных качеств – противоположною?
Теэтет. Да, и это они подтверждают.
Чужеземец. Но то, что может присутствовать в чем-либо или отсутствовать, непременно, скажут они, должно быть чем-то.
Теэтет. Они так и говорят.
bЧужеземец. Когда же справедливость, разумность и любая другая добродетель, а также их противоположности существуют и существует также душа, в которой все это пребывает, то признают ли они что-либо из этого видимым и осязаемым или же все – невидимым?
Теэтет. Пожалуй, здесь нет ничего видимого.
Чужеземец. Что же? Неужели они утверждают, что вещи подобного рода имеют тело?
Теэтет. Здесь они уже не решают все одинаковым образом, но им кажется, что сама душа обладает телом, в отношении же разумности и каждого из того, cо чем ты спросил, они не дерзают согласиться, что это вовсе не существует, и настаивать, что все это – телá.
Чужеземец. Нам ясно, Теэтет, что эти мужи исправились. Ведь те из них, которых породила земля [30 ], ни в чем не выказали бы робости, но всячески настаивали бы, что то, чего они не могут схватить руками, вообще есть ничто.
Теэтет. Пожалуй, они так и думают, как ты говоришь.
Чужеземец. Спросим, однако, их снова: если они пожелают что-либо, хоть самое малое, из существующего признать бестелесным, этого будет достаточно. dВедь они должны будут тогда назвать то, что от природы присуще как вещам бестелесным, так и имеющим тело, и глядя на что они тому и другому приписывают бытие. Быть может, они окажутся в затруднении. Однако, если что-либо подобное случится, смотри, захотят ли они признать и согласиться с выдвинутым нами положением относительно бытия – что оно таково?
Теэтет. Но каково же? Говори, и мы это скоро увидим.
Чужеземец. Я утверждаю теперь, что все, обладающее по своей природе способностью (δύναμιν) либо воздействовать на что-то другое, eлибо испытывать хоть малейшее воздействие, пусть от чего-то весьма незначительного и только один раз, – все это действительно существует. Я даю такое определение существующего: оно есть не что иное, как способность.
Теэтет. Ввиду того что в настоящее время они не могут сказать ничего лучшего, они принимают это определение.
Чужеземец. Прекрасно. Позже, быть может, и нам и им представится иное. Но для них пусть это останется у нас решенным.
248Теэтет. Пусть останется.
Чужеземец. Теперь давай обратимся к другим, к друзьям идей; ты же толкуй нам и их ответы.
Теэтет. Пусть будет так.
Чужеземец. Вы говорите о становлении и бытии, как-то их различая. Не так ли?
Теэтет. Да.
Чужеземец. И говорите, что к становлению мы приобщаемся телом с помощью ощущения, душою же с помощью размышления приобщаемся к подлинному бытию, о котором вы утверждаете, что оно всегда само себе тождественно, становление же всякий раз иное.
bТеэтет. Действительно, мы говорим так.
Чужеземец. Но как нам сказать, о наилучшие из людей, чтó в обоих случаях вы называете приобщением? Не то ли, о чем мы упомянули раньше?
Теэтет. Что же?
Чужеземец. Страдание или действие, возникающее вследствие некой силы (εκ δυνάμεως), рождающейся от взаимной встречи вещей. Быть может, Теэтет, ты и не слышишь их ответа на это, я же, пожалуй, благодаря близости с ними слышу.
Теэтет. Какое же, однако, приводят они объяснение?
Чужеземец. Они не сходятся с нами в том, что недавно было сказано людям земли [31 ] относительно бытия.
cТеэтет. В чем же именно?
Чужеземец. Мы выставили как достаточное определение существующего то, что нечто обладает способностью страдать или действовать, хотя бы даже и в весьма малом.
Теэтет. Да.
Чужеземец. На это, однако, они возражают, что способность страдать или действовать принадлежит становлению, но с бытием, как они утверждают, не связана способность ни того ни другого.
Теэтет. Разве так они говорят?
Чужеземец. Ну а нам надо на это ответить, что мы должны яснее у них узнать, признают ли они, что душа познает, а бытие познается?
dТеэтет. Это они действительно говорят.
Чужеземец. Что же? Считаете ли вы, что познавать или быть познаваемым – это действие или страдание или то и другое вместе? Или одно из них – страдание, а другое – действие? Или вообще ни то ни другое не причастно ни одному из двух [состояний]?
Теэтет. Ясно, что ничто из двух ни тому ни другому не причастно, иначе они высказали бы утверждение, противоположное прежнему.
eЧужеземец. Понимаю. Если познавать значит как-то действовать, то предмету познания, напротив, необходимо страдать. Таким образом, бытие, согласно этому рассуждению, познаваемое познанием, насколько познается, настолько же находится в движении в силу своего страдания, которое, как мы говорим, не могло бы возникнуть у пребывающего в покое.
Теэтет. Справедливо.
Чужеземец. И ради Зевса, дадим ли мы себя легко убедить в том, что движение, жизнь, душа и разум не причастны совершенному бытию и что бытие не живет и не мыслит, но возвышенное и чистое, не имея ума, стоит неподвижно в покое?
249Теэтет. Мы допустили бы, чужеземец, поистине чудовищное утверждение!
Чужеземец. Но должны ли мы утверждать, что оно обладает умом, жизнью же нет?
Теэтет. Как можно?!
Чужеземец. Но, согласившись в том, что ему присущи и то и другое, станем ли мы утверждать, что они находятся у него в душе?
Теэтет. Но каким иным образом могло бы оно их иметь?
Чужеземец. Так станем ли мы утверждать, что, имея ум, жизнь и душу, бытие совсем неподвижно, хотя и одушевлено?
bТеэтет. Мне все это кажется нелепым.
Чужеземец. Потому-то и надо допустить, что движимое и движение существуют.
Теэтет. Как же иначе?
Чужеземец. Итак, Теэтет, выходит, что если существующее неподвижно, то никто нигде ничего не мог бы осмыслить.
Теэтет. Несомненно, так.
Чужеземец. И однако же, если мы, с другой стороны, признаем все несущимся и движущимся, то этим утверждением мы исключаем тождественное из области существующего.
Теэтет. Каким образом?
cЧужеземец. Думаешь ли ты, что без покоя могли бы существовать тождественное, само себе равное и находящееся в одном и том же отношении?
Теэтет. Никогда.
Теэтет. Менее всего.
Чужеземец. И действительно, надо всячески словом бороться с тем, кто, устранив знание, разум и ум, в то же время каким-то образом настойчиво что-либо утверждает.
Теэтет. Несомненно, так.
Чужеземец. Таким образом, философу, который все это очень высоко ценит, как кажется, необходимо вследствие этого не соглашаться с признающими одну или много идей, будто все пребывает в покое, dи совершенно не слушать тех, кто, напротив, приписывает бытию всяческое движение, но надо, подражая мечте детей, чтобы все неподвижное двигалось, признать бытие и всё и движущимся и покоящимся [32 ].
Теэтет. Весьма справедливо.
Чужеземец. Что же, однако? Не достаточно ли уже, как представляется, мы охватили в своем рассуждении бытие?
Теэтет. Конечно.
Чужеземец. Вот тебе и на, Теэтет! А я бы сказал, что именно теперь мы и познаем всю трудность исследования бытия.
eТеэтет. Как это? Что ты сказал?
Чужеземец. Не замечаешь ли ты, мой милый, что мы сейчас оказались в совершенном неведении относительно бытия, а между тем нам кажется, будто мы о нем что-то говорим.
Теэтет. Мне кажется, да. Однако я совсем не понимаю, как мы могли незаметно оказаться в таком положении.
250Чужеземец. Но посмотри внимательнее: если мы теперь со всем этим соглашаемся, как бы нам по праву не предложили тех же вопросов, с которыми мы сами обращались к тем, кто признает, будто все есть теплое и холодное.
Теэтет. Какие же это вопросы? Напомни мне.
Чужеземец. Охотно. И я попытаюсь это сделать, расспрашивая тебя, как тогда тех, чтобы нам вместе продвинуться вперед.
Теэтет. Это правильно.
Чужеземец. Ну, хорошо. Не считаешь ли ты движение и покой полностью противоположными друг другу?
Теэтет. Как же иначе?
Чужеземец. И несомненно, ты полагаешь, что оба они и каждое из них в отдельности одинаково существуют?
bТеэтет. Конечно, я так говорю.
Чужеземец. Не думаешь ли ты, что оба и каждое из них движутся, раз ты признаешь, что они существуют?
Теэтет. Никоим образом.
Чужеземец. Значит, говоря, что оба они существуют, ты этим обозначаешь, что они пребывают в покое?
Теэтет. Каким же образом?
Чужеземец. Допуская в душе рядом с теми двумя нечто третье, а именно бытие, которым как бы охватываются и движение и покой, не считаешь ли ты, окидывая одним взглядом их приобщение к бытию, что оба они существуют?
cТеэтет. Кажется, мы действительно предугадываем что-то третье, а именно бытие, раз мы утверждаем, что движение и покой существуют.
Чужеземец. Таким образом, не движение и покой, вместе взятые, составляют бытие, но оно есть нечто отличное от них.
Теэтет. Кажется, так.
Чужеземец. Следовательно, бытие по своей природе и не стоит, и не движется.
Теэтет. По-видимому.
Чужеземец. Куда же еще должен направить свою мысль тот, кто хочет наверняка добиться какой-то ясности относительно бытия?
Теэтет. Куда же?
dЧужеземец. Я думаю, что с легкостью – никуда: ведь если что-либо не движется, как может оно не пребывать в покое? И напротив, как может не двигаться то, что вовсе не находится в покое? Бытие же у нас теперь оказалось вне того и другого. Разве это возможно?
Теэтет. Менее всего возможно.
Чужеземец. При этом по справедливости надо вспомнить о следующем...
Теэтет. О чем?
Чужеземец. А о том, что мы, когда нас спросили, к чему следует относить имя "небытие", полностью стали в тупик. Ты помнишь?
Теэтет. Как не помнить?
eЧужеземец. Неужели же по отношению к бытию мы находимся теперь в меньшем затруднении?
Теэтет. Мне по крайней мере, чужеземец, если можно так сказать, кажется, что в еще большем.
Чужеземец. Пусть это, однако, остается здесь под сомнением. Так как и бытие и небытие одинаково связаны с нашим недоумением, то можно теперь надеяться, что насколько одно из двух окажется более или менее ясным, и другое явится в том же виде. 251И если мы не в силах познать ни одного из них в отдельности, то будем по крайней мере самым надлежащим образом – насколько это возможно – продолжать наше исследование об обоих вместе.
Теэтет. Прекрасно.
Чужеземец. Давай объясним, каким образом мы всякий раз называем одно и то же многими именами?
Теэтет. О чем ты? Приведи пример.
Чужеземец. Говоря об одном человеке, мы относим к нему много различных наименовании, приписывая ему и цвет, и очертания, и величину, и пороки, и добродетели, и всем этим, а также тысячью других вещей говорим, что он не только человек, bно также и добрый и так далее, до бесконечности; таким же образом мы поступаем и с остальными вещами: полагая каждую из них единой, мы в то же время считаем ее множественной и называем многими именами.
Теэтет. Ты говоришь правду.
Чужеземец. Этим-то, думаю я, мы уготовили пир и юношам и недоучившимся старикам: ведь у всякого прямо под руками оказывается возражение, что невозможно-де многому быть единым, а единому – многим [33 ], и всем им действительно доставляет удовольствие не допускать, чтобы человек назывался добрым, cно говорить, что доброе – добро, а человек – лишь человек. Тебе, Теэтет, я думаю, часто приходится сталкиваться с людьми, иногда даже уже пожилыми, ревностно занимающимися такими вещами: по своему скудоумию они всему этому дивятся и считают, будто открыли здесь нечто сверхмудрое.
Теэтет. Конечно, приходилось.
Чужеземец. Чтобы, таким образом, наша речь была обращена ко всем, кто когда-либо хоть как-то рассуждал о бытии, пусть и этим, dи всем остальным, с кем мы раньше беседовали, будут предложены вопросы о том, что должно быть выяснено.
Теэтет. Какие же вопросы?
Чужеземец. Ставим ли мы в связь бытие с движением и покоем или нет, а также что-либо другое с чем бы то ни было другим, или, поскольку они несмешиваемы и неспособны приобщаться друг к другу, мы их за таковые и принимаем в своих рассуждениях? Или же мы всё, как способное взаимодействовать, сведем к одному и тому же? Или же одно сведем, а другое нет? Как мы скажем, Теэтет, чтó они из всего этого предпочтут?
eТеэтет. На это я ничего не могу за них возразить.
Чужеземец. Отчего бы тебе, отвечая на каждый вопрос в отдельности, не рассмотреть все, что из этого следует?
Теэтет. Ты говоришь дело.
Чужеземец. Во-первых, если хочешь, допустим, что они говорят, будто ничто не обладает никакой способностью общения с чем бы то ни было. Стало быть, движение и покой никак не будут причастны бытию?
252Теэтет. Конечно, нет.
Чужеземец. Что же? Не приобщаясь к бытию, будет ли из них что-либо существовать?
Теэтет. Не будет.
Чужеземец. Быстро, как видно, все рухнуло из-за этого признания и у тех, кто все приводит в движение, и у тех, кто заставляет все, как единое, покоиться, и также у тех, кто связывает существующее с идеями и считает его всегда самому себе тождественным. Ведь все они присоединяют сюда бытие, говоря: одни – что [всё] действительно движется, другие же – что оно действительно существует как неподвижное.
Теэтет. Именно так.
bЧужеземец. В самом деле, и те, которые всё то соединяют, то расчленяют, безразлично, соединяют ли они это в одно или разлагают это одно на бесконечное либо же конечное число начал и уже их соединяют воедино, – все равно, полагают ли они, что это бывает попеременно или постоянно, в любом случае их слова ничего не значат, если не существует никакого смешения.
Теэтет. Верно.
cТеэтет. Как это?
Чужеземец. Принужденные в отношении ко всему употреблять выражения "быть", "отдельно", "иное", "само по себе" [34 ] и тысячи других, воздержаться от которых и не привносить их в свои речи они бессильны, они и не нуждаются в других обличителях, но постоянно бродят вокруг, таща за собою, как принято говорить, своего домашнего врага и будущего противника, подающего голос изнутри, подобно достойному удивления Евриклу [35 ].
dТеэтет. То, что ты говоришь, вполне правдоподобно и истинно.
Чужеземец. А что, если мы у всего признаем способность к взаимодействию?
Теэтет. Это и я в состоянии опровергнуть.
Чужеземец. Каким образом?
Теэтет. А так, что само движение совершенно остановилось бы, а с другой стороны, сам покой бы задвигался, если бы они пришли в соприкосновение друг с другом.
Чужеземец. Однако высшая необходимость препятствует тому, чтобы движение покоилось, а покой двигался [36 ].
Теэтет. Конечно.
Чужеземец. Значит, остается лишь третье.
Теэтет. Да.
eЧужеземец. И действительно, необходимо что-либо одно из всего этого: либо чтобы все было склонно к смешению, либо ничто, либо одно склонно, а другое нет.
Теэтет. Как же иначе?
Чужеземец. Первые два [предположения] были найдены невозможными.
Теэтет. Да.
Чужеземец. Следовательно, каждый, кто только желает верно ответить, допустит оставшееся из трех.
Теэтет. Именно так.
Чужеземец. Когда же одно склонно к смешению, а другое нет, то должно произойти то же самое, что и с буквами: одни из них не сочетаются друг с другом, другие же сочетаются [37 ].
253Теэтет. Как же иначе?
Чужеземец. Гласные преимущественно перед другими проходят через все, словно связующая нить, так что без какой-либо из них невозможно сочетать остальные буквы одну с другой.
Теэтет. Конечно.
Чужеземец. Всякому ли известно, какие [буквы] с какими способны сочетаться, или тому, кто намерен это делать должным образом, требуется искусство?
Теэтет. Нужно искусство.
Чужеземец. Какое?
Теэтет. Грамматика.
Теэтет. Так.
Чужеземец. И по отношению к другим искусствам и неискусности мы найдем подобное же.
Теэтет. Как же иначе?
Чужеземец. Что же? Так как мы согласны в том, что и роды [вещей] находятся друг с другом в подобном же сочетании, то не с помощью ли некоего знания должен отыскивать путь в своих рассуждениях тот, кто намерен правильно указать, какие роды с какими сочетаются и какие друг друга не принимают, cа также, во всех ли случаях есть связь между ними, так чтобы они были способны смешиваться, и, наоборот, при разделении – всюду ли существуют разные причины разделения?
Теэтет. Как же не нужно знания и едва ли не самого важного?
Чужеземец. Но как, Теэтет, назовем мы теперь это знание? Или, ради Зевса, не напали ли мы незаметно для себя на науку людей свободных и не кажется ли, что, ища софиста, мы отыскали раньше философа?
Теэтет. Что ты хочешь сказать?
dЧужеземец. Различать все по родам, не принимать один и тот же вид за иной и иной за тот же самый – неужели мы не скажем, что это [предмет] диалектического знания?
Теэтет. Да, скажем.
Чужеземец. Кто, таким образом, в состоянии выполнить это, тот сумеет в достаточной степени различить одну идею, повсюду пронизывающую многое, где каждое отделено от другого; далее, он различит, как многие отличные друг от друга идеи охватываются извне одною и, наоборот, одна идея связана в одном месте совокупностью многих, наконец, как многие идеи совершенно отделены друг от друга. eВсе это называется уметь различать по родам, насколько каждое может взаимодействовать [с другим] и насколько нет.
Теэтет. Истинно так.
Чужеземец. Ты, думаю я, диалектику никому другому не припишешь, кроме как искренне и справедливо философствующему?
Теэтет. Как может кто-либо приписать ее другому?
Чужеземец. Философа мы, без сомнения, найдем и теперь и позже в подобной области, если поищем; однако и его трудно ясно распознать, хотя трудность в отношении софиста иного рода, чем эта.
254Теэтет. Почему?
Чужеземец. Один, убегающий во тьму небытия, куда он направляется по привычке, трудноузнаваем из-за темноты места. Не так ли?
Теэтет. По-видимому.
Чужеземец. Философа же, который постоянно обращается разумом к идее бытия, напротив, нелегко различить из-за ослепительного блеска этой области: духовные очи большинства не в силах выдержать созерцания божественного.
bТеэтет. Видно, это верно в той же степени, что и то.
Чужеземец. Таким образом, что касается философа, то мы его вскоре рассмотрим яснее [38 ], если будем чувствовать к тому охоту; но очевидно также, что нельзя оставлять и софиста, не рассмотрев его в достаточной степени.
Теэтет. Ты прекрасно сказал.
Чужеземец. Таким образом, мы согласились, что одни роды склонны взаимодействовать, другие же нет и что некоторые – лишь с немногими [видами], другие – со многими, третьи же, наконец, во всех случаях беспрепятственно взаимодействуют со всеми; cтеперь мы должны идти дальше в нашей беседе, так, чтобы нам коснуться не всех видов, дабы из-за множества их не прийти в смущение, но избрать лишь те, которые считаются главнейшими [39 ], и прежде всего рассмотреть, каков каждый из них, а затем, как обстоит дело с их способностью взаимодействия. И тогда, если мы и не сможем со всей ясностью постичь бытие и небытие, то, по крайней мере, не окажемся, насколько это допускает способ теперешнего исследования, несостоятельными dв их объяснении, если только, говоря о небытии, что это действительно небытие, нам удастся уйти отсюда невредимыми.
Теэтет. Конечно, надо так сделать.
Чужеземец. Самые главные роды, которые мы теперь обследуем, это – само бытие, покой и движение.
Теэтет. Да, это самые главные.
Чужеземец. И о двух из них мы говорим, что они друг с другом несовместимы.
Теэтет. Несомненно.
Чужеземец. Напротив, бытие совместимо с тем и с другим. Ведь оба они существуют.
Теэтет. Как же иначе?
Чужеземец. Следовательно, всего их три.
Теэтет. Бесспорно.
Чужеземец. Каждый из них есть иное по отношению к остальным двум и тождественное по отношению к себе самому.
eТеэтет. Так.
Чужеземец. Чем же, однако, мы теперь считаем тождественное и иное? Может быть, это какие-то два рода, отличные от тех трех, но по необходимости всегда с ними смешивающиеся? В этом случае исследование должно вестись относительно пяти существующих родов, а не трех, или же, сами того не замечая, мы называем тождественным и иным что-то одно из тех [трех]?
255Теэтет. Может быть.
Чужеземец. Но движение и покой не есть, верно, ни иное, ни тождественное?
Теэтет. Как так?
Чужеземец. То, что мы высказали бы сразу и о движении и о покое, не может быть ни одним из них.
Теэтет. Почему же?
Чужеземец. Движение тогда остановится, а покой, напротив, будет двигаться; ведь одно из этих двух, какое бы оно ни было, вступая в область обоих, заставит иное снова превратиться в противоположное своей собственной природе, поскольку оно причастно противоположному.
bТеэтет. Именно так.
Чужеземец. Ведь теперь оба они причастны и тождественному и иному.
Теэтет. Да.
Чужеземец. Поэтому мы не должны говорить ни о движении, что оно тождественное или иное, ни о покое.
Теэтет. Конечно, не должны.
Чужеземец. Но не следует ли нам мыслить бытие и тождественное как нечто одно?
Теэтет. Возможно.
Чужеземец. Но если бытие и тождественное не означают ничего различного, то, говоря о движении и покое, что оба они существуют, мы назовем, таким образом, и то и другое, как существующее, тождественным.
cТеэтет. Но это невозможно.
Чужеземец. Значит, невозможно, чтобы бытие и тождественное были одним.
Теэтет. Похоже на это.
Чужеземец. В таком случае, не допустим ли мы рядом с тремя видами четвертый: тождественное?
Теэтет. Да, конечно.
Теэтет. Возможно.
Чужеземец. Впрочем, думаю, ты согласишься, что из существующего одно считается [существующим] само по себе, другое же лишь относительно другого.
Теэтет. Отчего же не согласиться?
dЧужеземец. Иное же всегда [существует лишь] по отношению к иному. Не так ли?
Теэтет. Так.
Чужеземец. Не совсем, если бытие и иное не вполне различаются. Если бы, однако, иное было причастно обоим видам как бытие, то одно из иного было бы иным совсем не относительно иного. Теперь же у нас попросту получилось, что то, что есть иное, есть по необходимости иное в отношении иного.
Теэтет. Ты говоришь так, как это и обстоит на самом деле.
Чужеземец. Следовательно, пятой среди тех видов, которые мы выбрали, надо считать природу иного.
eТеэтет. Да.
Чужеземец. И мы скажем, что эта природа проходит через все остальные виды, ибо каждое одно есть иное по отношению к другому не в силу своей собственной природы, но вследствие причастности идее иного.
Теэтет. Именно так.
Чужеземец. Об этих пяти [видах] [40 ], перебирая их поодиночке, мы выразились бы так...
Теэтет. Как именно?
Чужеземец. Во-первых, движение есть совсем иное, чем покой. Или как мы скажем?
Теэтет. Так.
Чужеземец. Таким образом, оно – не покой.
Теэтет. Никоим образом.
256Чужеземец. Существует же оно вследствие причастности бытию?
Теэтет. Да.
Чужеземец. И опять-таки движение есть иное, чем тождественное.
Теэтет. Да.
Чужеземец. Значит, оно – нетождественное.
Теэтет. Конечно, нет.
Чужеземец. Однако оно было тождественным вследствие того, что все причастно тождественному.
Теэтет. Да, и очень.
Чужеземец. Надо согласиться, что движение есть и тождественное и нетождественное, и не огорчаться. Ведь, когда мы назвали его тождественным и нетождественным, мы выразились неодинаково: коль скоро мы называем его тождественным, мы говорим так bиз-за его причастности тождественному в отношении к нему самому; если же, напротив, мы называем его нетождественным, то это происходит вследствие его взаимодействия с иным, благодаря чему, отделившись от тождественного, движение стало не этим, но иным, так что оно снова справедливо считается нетождественным.
Теэтет. Несомненно, так.
Чужеземец. Поэтому, если бы каким-то образом само движение приобщалось к покою, не было бы ничего странного в том, чтобы назвать его неподвижным.
Теэтет. Вполне справедливо, если мы согласимся, что одни роды склонны смешиваться, другие же нет.
cЧужеземец. К доказательству этого положения мы пришли еще раньше теперешних доказательств, когда утверждали, что так оно по природе и есть.
Теэтет. Как же иначе?
Чужеземец. Скажем, однако, снова: движение отлично от иного, равно как оно есть другое по отношению к тождественному и покою?
Теэтет. Безусловно.
Чужеземец. Стало быть, согласно настоящему объяснению, оно каким-то образом есть и иное и не иное.
Теэтет. Правда.
Чужеземец. Что же дальше? Будем ли мы утверждать, что движение – иное по отношению к трем [видам], а о четвертом не скажем этого, признав в то же время, что всех видов, о которых и в пределах которых мы желаем вести исследование, – пять?
dТеэтет. Как же? Ведь невозможно согласиться на меньшее число, чем то, что вышло теперь.
Чужеземец. Итак, мы смело должны защищать положение, что движение есть иное по отношению к бытию?
Теэтет. Да, как можно смелее.
Чужеземец. Не ясно ли, однако, что движение на самом деле есть и небытие, и бытие, так как оно причастно бытию?
Теэтет. Весьма ясно.
Чужеземец. Небытие, таким образом, необходимо имеется как в движении, так и во всех родах. Ведь распространяющаяся на всё природа иного, делая все иным по отношению к бытию, превращает это в небытие, eи, следовательно, мы по праву можем назвать всё без исключения небытием и в то же время, так как оно причастно бытию, назвать это существующим.
Теэтет. Похоже на то.
Чужеземец. В каждом виде поэтому есть много бытия и в то же время бесконечное количество небытия.
Теэтет. Кажется.
Чужеземец. Таким образом, надо сказать, что и само бытие есть иное по отношению к прочим [видам].
257Теэтет. Это необходимо.
Чужеземец. И следовательно, во всех тех случаях, где есть другое, у нас не будет бытия. Раз оно не есть другое, оно будет единым; тем же, другим, бесконечным по числу, оно, напротив, не будет.
Теэтет. Похоже, что так.
Чужеземец. Не следует огорчаться этим, раз роды по своей природе взаимодействуют. Если же кто с этим не согласен, пусть тот опровергнет сначала наши предыдущие рассуждения, а затем также и последующие.
Теэтет. Ты сказал весьма справедливо.
bЧужеземец. Посмотрим-ка вот что.
Теэтет. Что именно?
Чужеземец. Когда мы говорим о небытии, мы разумеем, как видно, не что-то противоположное бытию, но лишь иное.
Теэтет. Как так?
Чужеземец. Ведь если мы, например, называем что-либо небольшим, кажется ли тебе, что этим выражением мы скорее обозначаем малое, чем равное?
Теэтет. А как же.
Чужеземец. Следовательно, если бы утверждалось, что отрицание означает противоположное, мы бы с этим не согласились или согласились бы лишь настолько, чтобы "не" и "нет" означали нечто другое с по отношению к рядом стоящим словам, либо, еще лучше, вещам, к которым относятся высказанные вслед за отрицанием слова.
cТеэтет. Несомненно, так.
Чужеземец. Подумаем-ка, если и тебе угодно, о следующем.
Теэтет. О чем же?
Чужеземец. Природа иного кажется мне раздробленной на части подобно знанию.
Теэтет. Каким образом?
Чужеземец. И знание едино, но всякая часть его, относящаяся к чему-либо, обособлена и имеет какое-нибудь присущее ей имя. Поэтому-то и говорится о многих искусствах и знаниях.
dТеэтет. Конечно, так.
Чужеземец. Поэтому и части природы иного, которая едина, испытывают то же самое.
Теэтет. Может быть. Но каким, скажем мы, образом?
Чужеземец. Не противоположна ли какая-либо часть иного прекрасному?
Теэтет. Да.
Чужеземец. Сочтем ли мы ее безымянной или имеющей какое-то имя?
Теэтет. Имеющей имя; ведь то, что мы каждый раз называем некрасивым, есть иное не для чего-либо другого, а лишь для природы прекрасного.
Чужеземец. Ну хорошо, скажи мне теперь следующее.
eТеэтет. Что же?
Чужеземец. Не выходит ли, что некрасивое есть нечто отделенное от какого-то рода существующего и снова противопоставленное чему-либо из существующего?
Теэтет. Так.
Чужеземец. Оказывается, некрасивое есть противопоставление бытия бытию.
Теэтет. Весьма справедливо.
Чужеземец. Что же? Не принадлежит ли у нас, согласно этому рассуждению, красивое в большей степени к существующему, некрасивое же в меньшей?
Теэтет. Никоим образом.
258Чужеземец. Следовательно, надо признать, что и небольшое и самое большое одинаково существуют.
Теэтет. Одинаково.
Чужеземец. Не дóлжно ли и несправедливое полагать тождественным справедливому в том отношении, что одно из них существует нисколько не меньше другого?
Теэтет. Отчего же нет?
Чужеземец. Таким же образом будем говорить и о прочем, коль скоро природа иного оказалась принадлежащей к существующему. Если же иное существует, то не в меньшей степени нужно полагать существующими и его части.
Теэтет. Как же иначе?
Чужеземец. Поэтому, как кажется, противопоставление природы части иного бытию есть, если позволено так сказать, bнисколько не меньшее бытие, чем само бытие, причем оно не обозначает противоположного бытию, но лишь указывает на иное по отношению к нему.
Теэтет. Совершенно ясно.
Чужеземец. Как же нам его назвать?
Теэтет. Очевидно, это то самое небытие, которое мы исследовали из-за софиста.
Чужеземец. Может быть, как ты сказал, оно с точки зрения бытия не уступает ничему другому и должно смело теперь говорить, что небытие, бесспорно, имеет свою собственную природу, cи подобно тому, как большое было большим, прекрасное – прекрасным, небольшое – небольшим и некрасивое – некрасивым, так и небытие, будучи одним среди многих существующих видов, точно таким же образом было и есть небытие? Или по отношению к нему, Теэтет, мы питаем еще какое-либо сомнение?
Теэтет. Никакого.
Чужеземец. А знаешь ли, мы ведь совсем не послушались Парменида в том, что касалось его запрета.
Теэтет. Как так?
Чужеземец. Стремясь в исследовании вперед, мы доказали ему больше того, что он дозволил рассматривать.
Теэтет. Каким образом?
dЧужеземец. А так, ведь он где-то сказал:
Этого нет никогда и нигде, чтоб не-сущее было; Ты от такого пути испытаний сдержи свою мысль.
Теэтет. Конечно, он так сказал.
Чужеземец. А мы не только доказали, что есть несуществующее, но и выяснили, к какому виду относится небытие. Ведь, указывая на существование природы иного и на то, eчто она распределена по всему существующему, находящемуся во взаимосвязи, мы отважились сказать, что каждая часть природы иного, противопоставленная бытию, и есть действительно то самое – небытие.
Теэтет. И кажется мне, чужеземец, мы сказали это в высшей степени правильно.
Чужеземец. Пусть же никто не говорит о нас, будто мы, представляя небытие противоположностью бытия, осмеливаемся утверждать, что оно существует. Ведь о том, что противоположно бытию, мы давно уже оставили мысль решить, существует ли оно или нет, обладает ли смыслом или совсем бессмысленно. 259Относительно же того, о чем мы теперь говорили, – будто небытие существует, – пусть нас либо кто-нибудь в этом разубедит, доказав, что мы говорим не дело, либо, пока он не в состоянии этого сделать, пусть говорит то же, что утверждаем и мы, а именно что роды между собой перемешиваются и что в то время, как бытие и иное пронизывают всё и друг друга, само иное, как причастное бытию, существует благодаря этой причастности, хотя оно и не то, чему причастно, а иное; вследствие же того, что оно есть иное по отношению к бытию, оно – совершенно ясно – необходимо должно быть небытием. bС другой стороны, бытие, как причастное иному, будет иным для остальных родов и, будучи иным для них всех, оно не будет ни каждым из них в отдельности, ни всеми ими, вместе взятыми, помимо него самого, так что снова в тысячах тысяч случаев бытие, бесспорно, не существует; и все остальное, каждое в отдельности и все в совокупности, многими способами существует, многими же – нет.
Теэтет. Это верно.
Чужеземец. Если, однако, кто-либо не верит этим противоречиям, то ему надо произвести исследование самому и привести нечто лучшее, чем сказанное теперь. cЕсли же он, словно измыслив что-либо трудное, находит удовольствие в том, чтобы растягивать рассуждение то в ту, то в другую сторону, то он занялся бы делом, не стоящим большого прилежания, как подтверждает наша беседа. Ведь изобрести это и не хитро, и не трудно, а вот то – и трудно, и в такой же мере прекрасно.
Теэтет. Что именно?
Чужеземец. А то, что было сказано раньше: допустив все это как возможное, быть в состоянии следовать за тем, что говорится, отвечая на каждое возражение в том случае, если кто-либо станет утверждать, будто иное каким-то образом есть тождественное или тождественное есть иное в том смысле и отношении, в каких, будет он утверждать, это каждому из них подобает. dНо объявлять тождественное каким-то образом иным, а иное – тождественным, большое малым или подобное неподобным и находить удовольствие в том, чтобы в рассуждениях постоянно высказывать противоречия, – это не истинное опровержение, здесь чувствуется новичок, который лишь недавно стал заниматься существующим.
Теэтет. Именно так.
Особое место в философии Платона занимает учение о бытии. Как уже было отмечено, первоначальное развитие учения о бытии связано с Парменидом. Платон, как и Парменид, считал, что бытие является вечным и неизменным. Но в то же самое время учение Платона несёт в себе новые идеи.
Что Платон понимал под бытием? Согласно Платону, действительным бытием является мир идей. Платон выступил против позиции наивных реалистов, согласно которой информацию о мире можно получить с помощью органов чувств. Органы чувств свидетельствуют нам, что мир чувственных вещей является действительным бытием. Эта позиция, по мнению Платона, является ошибочной. Людей, верящих в это, он называл наивными реалистами. Платон сравнивает их с людьми, которые с рождения находятся в слабо освещённой пещере и могут судить об окружающем мире только по теням, которые возникают на её стенах. Никогда не видя реальных вещей, они принимают тени за нечто реальное, доверяют своим органам чувств. Но чувственный мир – это кажущийся мир. Ему противостоит действительный мир. Этот мир можно познать не чувствами, а разумом. Этот мир является действительным бытием и представляет собой Идеальный мир.
Описывая «мир идей», Платон отмечает, что этот мир находится в «занебесной области». Идеальный мир – это сущее, которое «всегда есть и никогда не порождается». Число идей у Платона велико. По существу, их должно быть столько, сколько существует вещей, потому что идеи являются стандартами, образцами чувственных вещей. В этом смысле существуют идея человека, огня, воды, собаки и т.п. То есть для каждой вещи должна существовать особая идея. Однако Платон считал, что идеи не просто существуют, но и находятся в отношении соподчинения друг с другом. Не случайно в этой связи Платон выделяет различные типы идей: идеи живых существ (кошки, собаки и пр.), идеи физических явлений (движение, покой и пр.), идеи высших ценностей (благо, прекрасное и пр.), идеи предметов, возникающих благодаря деятельности ремесленников (стола, стула, шкафа и пр.).
Платон с помощью «мира идей» пытается объяснить мироздание: чувственный мир, космос. Однако одних идей недостаточно, чтобы объяснить многообразие чувственных вещей. Ещё одной причиной является материя (в терминологии Платона – хора). Её нельзя назвать телом, потому что она бесформенна, но пластична, способна принимать различные формы. Материя – это своего рода материал, субстрат (общая материальная основа), которая благодаря идеям «превращается» в ту или иную чувственную вещь.
Таким образом, позиция Платона основывается на определяющей роли идей в существовании мира чувственных вещей. Идеи существуют, по Платону, объективно. В этом смысле Платон – сознательный и последовательный объективный идеалист.
Основной наукой, определяющей собой все прочие, является для Платона диалектика – метод разделения единого на многое, сведения многого к единому и структурного представления целого как единораздельной множественности. Диалектика, вступая в область спутанных вещей, расчленяет их так, что каждая вещь получает свой смысл, свою идею. Этот смысл, или идея вещи, берётся как принцип вещи, как её «ипотеса», закон («номос»), ведущий у Платона от рассеянной чувственности к упорядоченной идее и обратно; именно так понимается у Платона логос. Диалектика поэтому является установлением мысленных оснований для вещей, своего рода объективных априорных категорий или смысловых форм. Эти логос – идея – ипотеса – основание трактуются и как предел («цель») чувственного становления. Такой всеобщей целью является благо в «Государстве», «Филебе», «Горгии» или красота в «Пире». Этот предел становления вещи содержит в себе в сжатом виде всё становление вещи и является как бы его планом, его структурой. В связи с этим диалектика у Платона является учением о неделимых целостностях; как таковая она сразу и дискурсивна, и интуитивна; производя всевозможные логические разделения, она умеет и всё сливать воедино. Диалектик, по Платону, обладает «совокупным видением» наук, «видит всё сразу».
Согласно учению Платона лишь мир идей представляет собой истинное бытие, а конкретные вещи - это нечто среднее между бытием и небытием, они только тени идей. Мир идей - божественное царство, в к-ром до рождения человека пребывает его бессмертная душа. Затем она попадает на грешную землю, где временно находясь в чел. теле, как узник в темнице она вспоминает о мире идей. Бытие содержт в себе противоречия: оно едино и множественно, вечно и преходяще, неизменно и изменчиво.
«Софист», как и «Парменид», – диалоги, в которых Платон раскрывает сущность своей философии, тему идеи. Ощутимо меняется само изложение Платоном своей мысли. На место мифа с его образной многозначительностью приходит терминологически отточенное и строго понятийное изложение. Неизменным остается тот интеллектуальный каркас платонизма, обозначенный уже и в «Пире», и в «Федре». Неизменна и проблематика, лежащая в поле зрения Платона, ее можно ощутить в самих названиях диалогов «Софист» и «Парменид» – в них, конечно, ухвачено самое главное из идейных течений доплатоновской философии, питающих платонизм, и сделавших платоновский синтез таким четким как бы упругим и выпуклым. И софисты в их пафосе «всеразъедающего» мышления в теме отношения, поглощающего и растворяющего бытие, и Парменид в его теме бытия, отрицающего отношение, – в высшем смысле слова характерны и цельны. Основную проблематику «Софиста» в целом можно вывести из тезиса Парменида Элейского «бытие и мышление суть одно и то же», в интерпретации самого Парменида и в интерпретации софистов. Если Парменид «одно и то же» понимал как неотличимость подлинного бытия от подлинного же мышления – и то, и другое слиты до неразличимости в «есть». То софисты «одно и то же» понимали в разделительном смысле, так как одним и тем же может быть только исходно различное, мало того – это различие абсолютно и непреодолимо: бытие вообще – одно, бытие, которое мы мыслим – другое, о котором рассуждаем – третье. Это тезис Горгия. Познавательному оптимизму Парменида софисты противопоставляли не столько свой скепсис, сколько другой оптимизм, связанный с всесилием мышления – меры судящим каким бытию быть. Горгий в парменидовом «одно и тоже» видит не единство, а три разных вида бытия, на которые «одно и тоже» казавшееся таким монолитным распадается если мы в серьез начинаем его мыслить. С точки зрения софистов изначально различие – отношение к иному, а не единство – отношение к себе. Такова, по софистам, природа мышления, единственного для философа органа познания бытия. Перед Платоном, стоит казалось бы неразрешимая задача: угадать общее во взаимоисключающих подходах, обнаружить истину за противоборствующими правдами элеатов и софистов. Действительно, не согласиться с Парменидом нельзя: для того, чтобы нечто познать, предмет должен быть конечен – завершен, соотнесен только и исключительно с собой, неизменен и неподвижен. Только о такой реальности мы можем сказать «есть». Но и софистическо-сократовский опыт бытия неотменим. Мы мыслим бытие, как и вообще любую вещь, а значит, сравниваем, соотносим и противопоставляем, что бы мы ни взяли – оно уже соотнесено с другим и тянет за собой все многообразие бесчисленных отношений, а значит находится в постоянном становлении – изменении внутренних и внешних связей. Множественность – дробность бытия и схватывается мышлением, поскольку и само оно сложно, даже если мы мыслим сами себя, оно диада – двоица, а не монада – единое (как хотел представить Парменид).
С сократовского переворота начинается период высокой классики в античной философии. Самым талантливым учеником стал Платон. В противоположность Сократу он был выходцем из знатнейшей семьи: по линии матери его род восходил к Соломону. По линии отца никто из мужчин не умирал своей смертью, будучи вовлеченными в политические игры высшего света Афин.
Вся жизнь этого философа окутана легендами: в одной ему предписывают божественное происхождение с вмешательством Аполлона, в другой божественные пчелы наделяют его даром красноречия.
Платон развил наследие учителя прежде всего посредством онтологизации этического рационализма Сократа: Платон возвращается к учению элеатов, которые первыми отрефлексировали онтологию как учение о бытии, но делает это на новом качественном уровне, обогатившись сократовским пониманием собственно философского предмета и метода.
Истинно сущее бытие Платона – это вечные совершенные идеи (греч. Idea-понятие, представление), или эйдосы (греч. Eidos-вид, образ; у Платона – субстанциальные идеи), а именно идеи блага, красоты, мужества, справедливости, мудрости, истины и т.п. Вечные совершенные идеи Платона – это те же добродетели Сократа, но теперь уже совершенно четко отрефлексированные как элементы подлинного бытия. Мир вещей, по Платону, -это мир теней. Вещи существуют как материальная реальность, но она выступает в силу её временности, тленности, текучести, преходящего характера только как более или менее отчетливое отражение вечных совершенных идей. Говоря предельно абстрактным философским языком, по учению Платона, вечные совершенные идеи первичны, а материя вторична. Это значит, что фундамент бытия человека в мире составляют вечные совершенные идеи. В этом принципе скрыт глубокий жизнеутверждающий смысл: каждый из нас существует в той степени реально, в какой мы отчетливо воплощаем в себе идею блага, красоты, мужества, справедливости и т. п.
Вечные совершенные идеи Платона выполняют по отношению к миру вещей следующие основные функции:
они являются причиной бытия мира вещей
они являются сущностью вещей
они являются образцом для мира вещей
они выступают целью бытия мира вещей
таким образом, основные теоретические характеристики онтологии Платона следующие:
классик объективного идеализма
метафизик
ему присуща теология как учение о целесообразности, зародившейся в учении Анаксагора, но впервые отрефлексированная им.
Платон считал, что знанием не является:
чувственное восприятие
правильное мнение(хотя мнение выражается в логических формах, оно субъективно)
даже правильное мнение «со смыслом», т.е. особенно нагруженное обоснованное мнение.
Что же тогда является знанием по Платону? Знание- это постижение сущности вечных совершенных идей. Как же этого достичь? Платон разрабатывает концепцию припоминаний душой человека вечных совершенных идей, в царстве которых она прибывала до соединения с телом. От чего зависит, что у одних людей достаточно отчетливые представления о сущности вечных совершенных идей, а у других – весьма смутные? Платон считает, что причина этого кроется в эросе, т.е в том, насколько душа влюблена в этот мир вечных совершенных идей, от этого зависит размах крыльев души и высота её полета. При всем романтизме этой концепции она приводит к следующему важному выводу: если не любить свою память, то она ответит тем же, а любить- это значит посвящать время.
Единое-одно из главных понятий философии. Единое мыслится как начало неделимости, единства и целостности как реально сущего-вещи, души, сознания, личности, так и идеального бытия- понятия, закона, числа. В философии Е.(единство) служит предпосылкой таких понятий, как Целое (единство многих), непрерывное, тождество, равенство и т.д. Для философии понятие Е. столь же важно, как и понятие бытия. В зависимости от того, какое из этих понятий признается верховным началом, можно говорить о двух типах метафизики - о метафизике Е., или генологии и метафизике бытия. Платон относится к представителям генологии. Начало обсуждению Е. в античной философии положили пифагорийцы и элеаты. У пифагорийцев понятие Е.-монады- служит началом числа, а число есть условие возможности всякого знания. У элеатов понятия Е. и сущего употребляются как синонимы. Платон тоже рассматривает Е. как сущность, но вносит существенные изменения в его толкование элеатами. Даже утверждая, что «Е. существует», мы приписываем ему предикат бытия и, следовательно, мыслим «два»- Е. и бытие, а двоица есть начало множественности. Переход от Е. к бытию (т.е. к «двум») есть принцип порождения числа и устранения Е. как Е. Отсюда Платон делает вывод: раз «существующее Е.» - уже не едино, значит Е. не есть бытие, оно сверхбытийно. В качестве такового оно не может быть и предметом мысли, ибо мысль о Е. – это уже «два»; следовательно, Е. непостижимо для мышления, предметом последнего может быть только сущее (бытие). Однако в качестве сверхбытийного и непостижимого начала, не могущего вступать ни в какое отношение, Е., по Платону, есть необходимая предпосылка как бытия (множественности) , так и познания. «Единое сущее» - это по Платону, мир умопостигаемых сверхчувственных идей, к-рые образуют соотнесенное множество- целостность идеального мира. Каждая идея несет в себе начало единства.