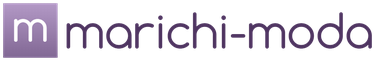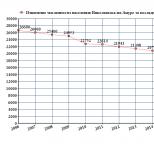Существует понятие коллективно национальной памяти. Рон айерман культурная травма и коллективная память
- Вы не любите дельфинов?
- Ненавидим!
- По какой же причине вы их ненавидите?
- Что за вопрос! Разве дельфины не соседи пингвинам?
- Соседи.
- Ну вот поэтому-то пингвины ненавидят дельфинов.
- Разве это причина для ненависти?
- Разумеется. Сосед - значит, враг.
Анатоль Франс, "Остров пингвинов"
Коллективная память
В начале ХХ века французский социолог Морис Халбвакс разработал понятие "Коллективная память". По его мнению, память возникает в процессе социализации личности, и та социальная среда, в которой живет индивидуум, определяет содержание его памяти. Мы запоминаем только ту информацию, которая кажется нам релевантной для того социального коллектива, к какому мы себя причисляем, а все остальное забываем, или даже просто не замечаем. По Халбваксу, каждый человек одновременно является членом нескольких коллективов, т.е. носителем нескольких коллективных памятей, такими коллективами могут быть, например, этническая группа, религиозная община, политическая партия, семья, школа, круг друзей и т.д.
Халбвакс различает коллективную и индивидуальную память, хотя последняя также рассматривается как социальное явление. Сферой индивидуальной памяти является чувственный мир личности. Она же соединяет различные коллективные памяти, что, в принципе, и определяет индивидуальность личности. Только сквозь призму индивидуальной памяти мы можем “взглянуть на коллективную память”.
По сути, именно общая коллективная память и объединяет разные индивидуумы в группы, определяет самобытность группы, тем самым разграничивая "нашу группу" от других, "чужих групп". Для определения своей самобытности каждой группе требуются такие символы и воспоминания, которые присущи ей одной, что и отличает одну группу, одну общность от другой группы, другой общности.
Образы коллективной памяти
Коллективная память состоит из конкретных символов и представлений, из образов (икон – Bilder) воспоминаний. Эти образы, подобно соссюровским знакам, состоят из совокупности формы и содержания. Для того, чтобы какая–либо идея осела в коллективной памяти (в общности образов коллективной памяти), нужно, чтобы эта идея получила определенную форму, и наоборот, каждое явление, которое оседает в коллективной памяти, становится носителем соответствующей идеи. Тем самым каждое явление получает такую интерпретацию, которая соответствует коллективной памяти группы. Теория Халбвакса примечательна и тем, что она объясняет также феномен забвения. Группа попросту игнорирует, не замечает те явления, которые не согласовываются с ее коллективной памятью.
Коллективная память vs. история
Коллективная память отличается, и в какой–то мере даже противоречит “реальной” истории. В коллективной памяти каждой группы оседают только те “исторические” явления, которые важны для этой конкретной группы, поэтому существует только “одна” история, но много коллективных памятей . Коллективная память не исторична в том смысле, что для нее важна не история сама по себе, т.е. последовательность достоверных фактов, а только возможность трактовки своей самобытности. Храня лояльность в отношении своей группы, коллективная память, тем самым, противится новшествам и изменениям, ибо, по Халбваксу, любое изменение “социальной рамки памяти” (cadres sociaux de la mémoire) влечет за собой “гибель” соответствующей группы. С другой стороны, перманентные изменения в политической и общественной жизни требуют адекватных решений и, следовательно, перемен бытующих образов коллективной памяти.
Модель когнитивного развития Жана Пиаже наглядно показывает взаимоотношения коллективной памяти группы и истории. Модель когнитивного развития основывается на двух элементарных процессах: ассимиляции и аккомодации. Оба эти процесса являются формами адаптации индивидуума к окружающей среде. В процессе адаптации создаются определенные когнитивные структуры, так называемые “схемы”. Схемы содержат определенную информацию, или, лучше сказать, знание о вещах, людях, ситуациях, их взаимосвязях и типах. Каждая схема является как бы конгломератом знаний, которые определены опытом индивидуума. Существуют определенные врожденные схемы, например, схема приема пищи (с груди). Существование подобных – врожденных – схем обязательно для создания новых схем. Новая информация обрабатывается и подгоняется под уже данную схему. Такой способ обработки информации проявляется в процессе ассимиляции. Когда информация настолько нова, что невозможно поместить ее в уже существующую схему, индивидуум “вынужден” либо проигнорировать эту информацию, – то есть забыть ее, – либо создать новую, адекватную схему с помощью акта аккомодации.
Процессы ассимиляции и аккомодации подчиняются принципу эквилибрации (Äquilibrationsprinzip), который, с одной стороны, ограничивает создание бесконечно новых схем, а с другой стороны, обеспечивает восприятие новой информации, то есть, в итоге, определяет когнитивное развитие личности. Согласно Пиаже, развитие личности протекает в виде вечно сменяющих друг друга процессов ассимиляции и аккомодации. Процесс ассимиляции сохраняет и обогащает уже существующие схемы, а аккомодация обязательна для решения тех проблем, с которыми сталкивается индивидуум за время своей жизни.
Каждая группа обрабатывает исторические факты по схожему принципу. Подобно младенцу, группа подгоняет новую информацию под знакомые, “старые” схемы (процесс ассимиляции). Если информация настолько нова, что не согласуется с существующей схемой, группа либо игнорирует этот факт, по терминологии Халбвакса, “забывает” его, либо создает новый образ, новую схему (процесс аккомодации).
Как уже было сказано, по Халбваксу, любое изменение коллективной памяти влечет за собой гибель группы. В подобном случае Халбвакс, не вдаваясь в подробности, говорит о смене “эпох”, обходя молчанием вопрос масштабности этих изменений. Правда, трудно согласиться с Халбваксом, что изменение любого образа коллективной памяти влечет за собой “гибель” группы. Ведь количество образов коллективной памяти невообразимо велико, и член коллектива не обязан знать все образы этой памяти, так же, как член той или иной языковой группы не обязан знать все слова соответствующего языка. Так что “неравенство” знаний у отдельных членов групп дано a priori.
Допустим, существует определенное количество образов, известное всем без исключения членам группы, которое мы можем обозначить как “ядро” коллективной памяти, или даже как саму коллективную память. И если можно говорить о смене “эпох”, то скорее всего только в случае изменения подобных, “канонических образов”, которые затрагивают всю группу и способствуют разрыву временного континуума группы, “гибели” старой и “рождению” новой группы. К подобным “каноническим” образам можно причислить, например, такие институционализированные символы, как государственные флаги, гимны, гербы и т.п.
Изменение образов коллективной памяти
Важные исторические события, радикальные изменения общественной жизни часто сопровождались заменой государственной символики. Так было после французской революции или, скажем, после русской революции 1917 года. За последние пятнадцать лет в Грузии несколько раз менялась государственная символика, что было также обусловлено крупными изменениями в политической жизни страны. Вместе с символикой исчезли те названия городов, сел, улиц, станций метро и т.д., которые были связаны с ушедшим политическим строем: такие, как, например, улица Калинина или станция метро “26 Бакинских комиссаров”, село Первомайское и т.д. Возникли новые названия: площадь Свободы, площадь 26 Мая и т.д.
Изменяя названия, переименовывая улицы, руша старые и воздвигая новые памятники, преследуется одна цель – разрушить нежелательный образ коллективной памяти, лишить его формы, с надеждой, что без формы “забудется” и содержание. Хотя все, конечно, не так просто, и, пока люди назначают свидание на площади Ленина, она продолжает существовать. Изменить коллективную память не просто, но возможно. Чтобы лучше представить себе механизм изменения образов коллективной памяти, следует кратко рассмотреть понятия культурной и коммуникативной памяти.
Культурная и коммуникативная память
Профессор Гейдельбергского университета, египтолог Ян Ассманн развил теорию Халбвакса, разработав понятия культурной и коммуникативной памяти, которые являются как бы двумя полюсами одной оси, одной коллективной памяти.
Коммуникативная память состоит из тех воспоминаний, которые “скапливаются” в нашей памяти с течением времени. Типичным примером коммуникативной памяти является память одного поколения, которая исчезает с исчезновением соответствующего поколения. С его уходом исчезают те образы воспоминаний, которые были присущи этому поколению, хотя некоторые образы, вследствие их важности, могут перейти в культурную память общества. Продолжительность коммуникативной памяти совпадает с продолжительностью жизни соответствующего поколения, она носит “неформальный” характер и для ее поддержания не требуются “специалисты” – каждый “очевидец достаточно компетентен, хотя, конечно, по-разному и в разной степени”.
Культурная память, в отличие от коммуникативной, является формальной, фундированной формой памяти. Модус такой памяти может быть представлен как в вербальной, так и в невербальной форме, например, в определенных “ритуалах, танцах, мифах, примерах, одежде, украшениях, татуировках, дорогах, живописи, ландшафте и т.д.”. Культурная память часто охватывает преисторическое время, она по сути своей, скорее, мифологична. Для существования культурной памяти требуется постоянное возобновление и укрепление воспоминаний, иначе: “циркуляция” символов или образов культурной памяти, что предотвращает их забвение. Поэтому культурной памяти часто требуются особые места для процесса воспоминания, например, в виде праздников. По Ассманну, египетские ритуальные праздники являются классическим примером циркуляции культурной памяти. Во время представления подобных ритуальных праздников происходит “репетиция” истории группы. Участие в праздниках, а оно, кстати, обязательно, указывает на сопричастность к соответствующей группе. Для таких праздников характерна их повторяемость, регулярность и строго определенная последовательность ритуальных действий. Подобная циркуляция культурной памяти типична для “ритуальной когерентности” группы. Культурная память институализирована, и в обществе имеются “эксперты” по культурной памяти. Эту функцию выполняли в разных культурах различные “специалисты”: шаманы, брамины, жрецы, священники и т.п. Они являлись носителями культурной памяти.
Возникновение и распространение письма, то есть переход от “ремесленной письменности” (craft literacy, handwerkliche Literalität) к “литературности”, обозначило новую эпоху развития культурной памяти. “Интерпретация” как метод чтения текстов вытеснила “репетицию” как метод представления культурной общности. Текст становится важным медиумом коллективной памяти, местом ее циркуляции. Кроме того, посредством переводов стало возможным также “заочное познание” других культур, хотя это “познание” часто довольно неадекватно. Кстати, возможности и проблемы перевода образов коммуникативной и культурной памяти в литературе заслуживают отдельного рассмотрения.
Образы коллективной памяти в современной Грузии
Разумеется, литература является не единственным “местом циркуляции” культурной памяти. В определении самобытности группы особое место занимают и многие другие символы. Изменяя подобные символы, переименовывая улицы и т.д., образы коллективной памяти переходят из культурной памяти в область коммуникативной памяти, тем самым ограничивая “жизнь” образа длительностью в одно поколение. По Ассманну, под одним поколением подразумевается период длительностью примерно в 80 лет, то есть пока живы очевидцы тех или иных событий. В нашем случае можно предположить, что примерно к середине XXI столетия площадь Ленина “исчезнет”, так же, как в свое время исчезли такие даты и имена, как проспект Головина (нынешний проспект Руставели) или Кирочная площадь (площадь Марджанишвили), Катериненфельд и др.
Для утверждения новой символики требуются “места” для ее циркуляции, Поэтому логично, что по постановлению Министерства образования Грузии новый государственный флаг Грузии, под аккомпанемент нового гимна будет подниматься в каждой школе раз в неделю. Этот процесс имеет все черты “ритуальной когерентности” со строго определенным временем и местом проведения, с обязательным присутствием, с четко обозначенной процедурой. Целью подобных мероприятий является укрепление самобытности группы. Объединение индивидуумов в одну общность (под одним флагом) способствует их сплочению, поэтому не только государства, но и многие крупные фирмы и организации имеют свою символику, свои флаги. Хотя существует опасность профанации этих символов, если ритуалы “скатятся” в рутину и потеряют сакральный смысл.
Коллективная память и язык
Образы культурной памяти метафоричны по своей сути, то есть в них можно различить два пласта информации – поверхностная, эксплицитно данная информация и скрытая, “символическая” информация, которая передается в максимально сжатой форме. Они вплетены в “ткань” языка, определяя не только границы и самобытность группы, но и ее мировоззрение.
Язык не простое отражение реальности, не номенклатура. Язык, являясь носителем интеллектуальной активности («энергии»), включенный в генетический процесс построения понятия, превращает тем самым факт действительности в факт сознания. Следовательно, “язык – это энергия, а не эргон” . Цель языка – оформить, сконструировать “реальность”. Различные языки по-разному конструируют мир.
Различие языков следует рассматривать не только в звучании и внешней форме, но в первую очередь, более глубоко – в способе видения мира или “мировидения” (sprachliche Weltansicht). Слова создают “здание языка” (Sprachbau). Слова в данном случае означают не только лексический запас слов, но и все элементы, которые являются отдельными единицами (Einheit). То есть “слова” охватывают все ступени языковой иерархии: фонемы, морфемы, слова, предложения и даже тексты .
Можно предположить, что такими же единицами языка являются образы коллективной памяти. Наряду с формальной организацией языка (грамматика), они определяют не только отношение языкового коллектива или группы к “реальности”, но и его восприятие, разграничивая, с одной стороны, разноязычные группы, а с другой стороны, группы в рамках одного языкового общества.
Как заметил этнолог Мюлеманн, граница между народами (Völker) является не географическим понятием, а определяется самим человеком, сам же человек представляет собой “пограничный знак, который маркирован татуировками, раскраской или деформацией тела, украшениями, одеждой, языком, кухней, стилем жизни, in summa : культурой”. Часто мы даже не замечаем, что в наших суждениях, оценках мы находимся в плену определенных стереотипов, предубеждений, истоки которых можно найти в нашей культурной памяти. Эти стереотипы, часто совершенно неосознанно, определяют “наше” отношение к “чужим”. “Чужой группой” может оказаться другая национальность, другая конфессия, другая партия, другой район города, другая улица и т.д.
Эти стереотипы проявляются в самых различных областях жизни, например, в анекдотах или, скажем, в рекламных текстах.
В конце 80–х годов в Грузии, и, наверное, во всем Советском Союзе, были широко распространены анекдоты про чукчей . Например, такой:
“Чукча, грузин и армянин едут в одном купе. Грузин говорит чукче: “Давай играть: Я загадываю загадку; отгадываешь – я тебе даю рубль, нет – ты мне”. – “Давай”, – соглашается чукча. Играют. Грузин говорит: “Одно круглое, красное, а сверху зеленое.” –“Тюленя?” – “Нет". – “Оленя? ” – “Нет”. – “Тогда не знаю. ” – “Один помидор.” Чукча кладет рубль. Грузин снова загадывает загадку: “Два круглых красных, сверху два зеленых.” – “Тюленя?” – “Нет”. – “Оленя?” – “Нет”. – “Тогда не знаю”. – “Два помидора…”. Так, заработав 40 рублей, грузин уходит в вагон–ресторан пировать. Возвращаясь поздно в купе, слышит: армянин спрашивает: “Что такое 3014 круглых красных, а сверху 3014 зеленых?” – “Тюленя?” – “Нет”. – “Оленя?”...”
Этот анекдот не претендует на особый юмор, но чтобы “понять” его, требуется знание определенных стереотипов, которое уже с первого предложения создает ожидание комического развития действия, образуется комическая констелляция, которая должна вылиться во что-то смешное. Фрейд обозначает подобный тип анекдота как “тенденциозный анекдот”. В таких анекдотах при помощи собирательного лица (Sammelperson), олицетворяющего собой какую-то общность, “например, целый народ ”, обыгрывается соответствующая группа. Для восприятия подобных тенденциозных анекдотов требуется общее, “коллективное знание” бытующих стереотипов. Следовательно, и для рассказа анекдота требуется соответствующая аудитория, чтобы тот или иной анекдот был воспринят как таковой. Бергсон считал, что “смех – всегда смех группы”. С позиции коллективной памяти подобные анекдоты преследуют одну цель: сплотить группу (Фрейд считал, что вызывая смех, рассказчик берет смеющихся в “сообщники”), и, оберегая самобытность группы, путем проекции неприятных чувств на другую общность, провести границу с другой группой (по Бергсону, “наказать смехом”).
С начала 90-х годов анекдоты про чукчей исчезают из грузинской действительности, и их место занимают анекдоты про сванов. Это можно объяснить тем, что с распадом Советского Союза, чукчи “исчезли” из космоса Грузии, следовательно, исчезла надобность разграничения. Анекдоты про соседей бытуют в любой стране, в любом регионе, но означают не более и не менее как признание другой группы как таковой. По мнению Мюлеманна, в племенных культурах племя расценивало свою культуру не как отличную от культуры соседнего племени, а как единственно возможную “культуру”. В национальных анекдотах проявляется принятие соответствующей группы как равной себе, не “чуждой”, а просто “другой”, но для сохранения собственной самобытности требуется подчеркивание не только “разниц”, но часто и своего преимущества. Поэтому анекдоты почти всегда ничего общего с “реальностью” не имеют. Так что обижаться на анекдоты, так же глупо, как и принимать их всерьез.
Образы коллективной памяти лежат в основе этих стереотипов. С другой стороны, частая повторяемость анекдотов способствует “циркуляции” образов культурной памяти. Эти образы влияют на наше восприятие и понимание мира. Образы коллективной памяти представляют собой сжатую информацию, а краткость, как заметил Фрейд, повторяя слова Жан-Поля, , является “душой и телом анекдота”.
Отдел туризма при Министерстве иностранных дел Испании (TURESPAÑA) подготовил две рекламные страницы на русском и немецком языках. На немецкоязычной странице крупным планом вынесена забинтованная эластичным бинтом стопа ноги с надписью “Испания оставляет след” (Spanien prägt Sie), а в углу показан один турист, который рассматривает старую, покрытую мхом скульптуру. Текст рекламы призывает к “открытию” 116 городов и сел с более чем 1800 памятниками истории и искусства.
На русскоязычной рекламе изображена молодая привлекательная девушка, а в углу размещена фотография стола, уставленного различными яствами и напитками. Слоган рекламы тот же: “Испания оставляет след”, но текст обещает незабываемое путешествие в мир испанской кухни, “под веселый смех друзей” и “обязательно в сопровождении хорошего местного вина”. Текст завершается следующим призывом: “И наслаждайся, не отказывая себе ни в чем”!
Первое объявление делает акцент на рекламирование индивидуального туризма: вам придется так долго ходить, пока не заболеют ноги. А вторая реклама отдает предпочтение вкусной еде в приятной компании. Можно предположить, что при выборе текстов и фотографий для этих рекламных плакатов главную роль сыграли распространенные в соответствующих странах представления о том, что такое туризм и хороший отдых. В первом случае целью туризма является ознакомление с культурой чужой страны, так называемый Kulturtourismus, а во втором случае – распространенное в России представление, согласно которому, путешествие за границу является хорошей возможностью новых знакомств и гастрономических удовольствий.
Презентация образов коллективной памяти
В современной жизни особое место для циркуляции образов культурной памяти занимает телевидение. Оно как бы объединяет ритуальную и текстуальную когерентность, превращая ритуальные праздники в ежевечернюю рутину, комментируя их без претензии на знание сакральной истины. Этот способ циркуляции я назвал бы “презентацией” культурной памяти. Нехватка времени для должной оценки быстро сменяющихся и часто повторяющихся образов, например, телевизионных реклам, способствует созданию новых стереотипов, новых “повседневных мифов”. Например, мифа об бескомпромиссных людях, пьющих пиво “Ёвер” (Jever), или о чемпионах, пьющих только холодный чай “Казбеги”. По Барту, каждый миф объединяет два пласта восприятия, прямого и символичного извещения. Но для восприятия этих пластов требуется знание соответствующих символов. В подобном случае образы коллективной памяти являются строительным материалом, как для создания, так и для восприятия подобных мифов и стереотипов.
Роль стереотипов в реальной жизни неимоверна высока. Принимая решения, мы не всегда утруждаем себя в полном объеме осмыслить ситуацию и ограничиваемся тем, что концентрируем наше внимание на каком–то одном элементе доступной нам информации. Психолог Роберт Чалдини подчеркивает, что “автоматическое, стереотипное поведение у людей превалирует, поскольку во многих случаях оно наиболее целесообразно, а в других случаях – просто необходимо. Мы с вами существуем в необыкновенно разнообразном окружении. Для того, чтобы вести себя в нем адекватно, нам нужны кратчайшие пути”. По мнению Чалдини, стереотипы, в основном, помогают нам в правильном выборе, хотя часто мы встречаемся с “ложными” стереотипами, против которых надо активно бороться. Правда, при чтении Чалдини открытым остается вопрос: как можно изменить эти “неправильные” представления и стереотипы.
Процесс объективации и коллективная память
Наши стереотипы обусловлены соответствующей фиксированной установкой. Установка является психическим состоянием, которое отражает и причинно определяет существенные факторы поведения, придавая ему целесообразный характер. Совокупность трех факторов – потребности и операциональных возможностей индивидуума, а также реально данной ситуации – ложится в основу формирования установки определенного поведения. Притом потребности человека как социального существа, в сравнении с потребностями животного, неимоверно многогранны. Образы культурной памяти влияют на возникновение этих потребностей, а также на оценку данной ситуации, которая не всегда адекватна реальности. Неадекватная установка способствует возникновению иллюзий.
Дмитрий Узнадзе, автор теории установки, выделяет два типа иллюзий: ассимилятивную и контрастную. Ассимилятивная иллюзия состоит в автоматическом причислении нового объекта к фиксированной установке. Причем осознается только та часть объекта, которая подходит к нашей установке. Несовпадающая часть объекта автоматически игнорируется. Во время контрастной иллюзии объект, не вписывающийся в нашу установку, воспринимается как ее противоположность, то есть одна иллюзия сменяется противоположной иллюзией . Часто повторяемые рекламы, анекдоты – “циркуляция” различных образов коллективной памяти – способствуют возникновению определенной установки, которая проявляется, скажем, во время реальных контактов с “героями” распространенных анекдотов, определяя наше поведение. В силу ассимилятивной иллюзии мы неадекватно оцениваем ситуацию, что способствует, с одной стороны, возникновению “конфликтов” на почве непонимания, а с другой стороны, упрочению несоответствующей установки.
В многочисленных экспериментах Узнадзе показал, что фиксированная установка протекает неосознанно и без участия внимания. Но установка и затронутые этой установкой объекты могут быть осознаны, если импульсивное, автоматизированное, то есть зависимое от установки действие будет нарушено или затруднено. Эта ступень человеческой деятельности именуется “объективацией”. Акту объективации может предшествовать изменение одного из факторов, определяющих установку, например, данной реальной ситуации, которая наглядно выявит неадекватность нашего автоматического поведения, тем самым заставляя нас “осознать” происшедшие изменения, перепроверить “адекватность” установки. Возникновение подобного “продуктивного” препятствия способствует преодолению или изменению образов культурной памяти.
Литература, средства массовой информации и другие носители культурной памяти, с одной стороны, мешают процессу объективации действительности, так как способствуют циркуляции стереотипных представлений, но, с другой стороны, именно они могут создать “препятствие” на пути нашего восприятия действительности и тем самым способствовать процессу объективации. Виктор Шкловский, говоря о назначении искусства, подчеркивал, что задачей литературного текста является освобождение вещей от “автоматизма восприятия” .
Есть много примеров литературных произведений, которые выполнили роль “препятствия”, тем самым выводя “вещь” из “автоматизма восприятия”, заставляя читателя задуматься, толкая его к сознательной обработке явления или идеи. Конечно, литература не панацея для общества. Как заметил один из героев романа Стругацких “Град обреченный”, литература – как совесть, она не лечит, она может только “болеть”. Литературные произведения ставят вопросы, переоценивают ценности, в конечном итоге пытаются изменить образы коллективной памяти. Иногда это довольно болезненный процесс, ведь коллективная память противится любым новациям, храня неприкосновенную самобытность группы.
Литературным примером попытки изменения коллективной памяти может послужить, например, поэма Важы Пшавелы “Алуда Кетелаури”, герой которой нарушает весь “космос” своей общности, увидев во “враге” человека. Общество, боясь и борясь за свою целостность, изгоняет Алуду, он становится изгоем . Можно привести много схожих примеров, когда литература выступает против господствующих стереотипов, но не надо преувеличивать роль и влияние литературы на общество. Хотя хочется, чтобы прав был тот польский поэт, о котором говорит Канетти в эссе “Профессия поэта”, который за пять дней до начала Второй мировой войны записал в своем дневнике: “Все кончено. Будь я настоящим поэтом, я смог бы предотвратить войну”. В этих строках прослеживается та ответственность за судьбу Человечества, которая не помешала бы также представителем других профессий.
Заключение
“Eine Gesellschaft, die nicht imstande ist, die Bewahrung ihrer eigenen Symbole
mit deren Revision zu kombinieren, geht unweigerlich unter.”
Alfred N. Whitehead
Коллективная память проявляется во всех сферах нашей деятельности, от реклам до анекдотов, укрепляя и подчеркивая самобытность группы. Образы коллективной памяти являются тем “строительным материалом”, теми “кирпичиками”, из которых строится самобытность группы. Сохранение самобытности подразумевает владение “техникой” переосмысления, перестройки образов коллективной памяти. Парадоксом является то, что для сохранения самобытности в наше стремительно изменяющееся время группа вынуждена переосмысливать свои ценности – изменяться. Кстати, свобода слова – обязательный атрибут для подготовки и осознанного “полезного” изменения группы.
Свобода слова – это не только возможность критики правительства, но также право и возможность критики общества, открытого обсуждения “закрытых”, табуированных тем. Последнему аспекту редко уделяется должное внимание.
А ведь литература, средства массовой информации должны поднимать и освещать подобные темы, способствуя процессу объективации. Адекватно решить осознанную проблему намного легче, чем пытаться прятать голову в песке, особенно во время прилива. Так что не надо бояться споров, ведь уже давно известно, что именно в спорах рождается истина.
Halbwachs M. Das kollektive Gedächtnis; Stuttgart, 1967. S. 31 („Ausblickspunk“ auf das kollektive Gedächtnis;).
Различное понимание, различная трактовка истории иногда является одной из причин региональных конфликтов. Поэтому очень желательно достичь синхронизации учебников истории в регионе, что послужит искоренению многих обоюдных стереотипных ошибок.
Ср.: Piaget, J. Die Äquilibration der kognitiven Strukturen, Stuttgart; 1976; и Piaget, J. Das Erwachen der Intelligenz beim Kinde, Stuttgart, 1975.
Например, во время перехода от кормления грудью к кормлению из соски знакомая младенцу схема принятия пищи несколько видоизменяется, но остается принципиально прежней, то есть схема переживает процесс ассимиляции. При переходе на кормление ложкой новый способ приема пищи настолько «нов”, что ребенок создает новую схему приема пищи (то есть совершает акт аккомодации).
В литературе известен и противоположный путь. В романе Джорджа Оруэлла «1984» создается язык «новояз», словарь которого сокращается с каждым годом. «Неужели вам непонятно – говорит один из персонажей романа Сайм, – что задача новояза – сузить горизонты мысли. В конце концов мы сделаем мыслепреступление попросту невозможным – для него не останется слов», Джордж Оруэлл «1984», Москва, 1989. С. 52.
Ср.: Mindadse I. Chatoba bei den Chevsuren – Literarische Darstellung des Festes als Medium des kulturellen Gedächtnises; Georgica, Bd. 23, Konstanz, 2000.
В основе понятия о культурной памяти лежит неотделимость прошлого от настоящего. Человек видит окружающий мир и реагирует на него, опираясь на свой опыт, как положительный, так и отрицательный. Сталкиваясь с чем-то новым или с очередным препятствием, он использует конкретные, необходимые в данном случае "страницы" своего опыта, чтобы затем вновь отложить их обратно в "библиотеку" сознания. Итальянский писатель Итало Звево в своей книге "Самопознание Дзено" метко сравнивает этот процесс с тем, как дирижёр выводит партии определённых инструментов на передний план. Так и прошлое кажется нам то близким, то неизмеримо далёким, почти забытым, в зависимости от того, что требует ситуация - затемнить или высветить настоящее. Но прошлое всегда, так или иначе, связано с настоящим. Соответственно, индивидуальная идентичность каждого человека состоит из восприятия и осознания событий прошлого. Именно память, несмотря на всю её ненадёжность и эфемерность, формирует человеческую личность со всеми её взглядами, привычками, страхами и желаниями. Однако существует и второй, более глубокий слой памяти, в который вытесняются наиболее неприятные, постыдные воспоминания, которые именуются "травмами", а сама эта область в психоанализе зовётся "бессознательным".
Индивидуальная память человека также сильно зависит от воспоминаний других людей, особенно переживших сохранённые события вместе с ним. Переплетаясь и взаимно дополняя друг друга, воспоминания упрочняются. Таким образом, память обладает коммуникативным свойством и способна объединять людей в сообщества. Воспоминания, даже самые свежие, представляют собой изображения, чувства, звуки, слова лишь в виде обрывков, неизменно искажающих факты произошедшего. В таком виде они не могут быть переданы кому бы то ни было, поэтому человек использует речь и письменность для обличения воспоминаний в доступную для восприятия форму. Отсюда следуют ещё два важных свойства памяти. Первое - "нарративное" - ставит память в зависимость от литературных и речевых особенностей языка носителя информации о прошлом. Второе - социальное - выражается в том, что человек не может обладать памятью, будучи отделённым от общества.
Ближайшие "партнёры" человека по памяти - его собственная семья. Передавая воспоминания по наследству, от поколения к поколению, и подстраивая их под условия современности, семья создаёт временные условия памяти, которые обычно составляют три поколения, 80-100 лет. Спустя этот промежуток времени, память естественным образом лишается накопленных воспоминаний, освобождая, таким образом, место для последующих поколений.
Наряду с семейными поколениями существуют поколения исторические. Сменяя друг друга, они создают особый ритм исторического восприятия. Мировоззрение человека, в общем случае, формируется в жизненный период между 12 и 25 годами, когда он наиболее остро воспринимает события, происходящие в мире, в собственной стране и в родном городе. Локальные и масштабные, эти события в разной степени влияют на сознание молодого человека, создавая его будущую идентичность. Это происходит и в том случае, если он не вовлечён непосредственно в происходящие процессы, не является жертвой или виновником событий, оставаясь наблюдателем, свидетелем. Важнейшие исторические потрясения оказывают ключевое влияние на индивида, даже если он абсолютно не разделяет те взгляды и ценности, которые присущи его современникам. Именно этим и объясняются феномены "потерянных" поколений, коллективная память которых сформирована под ударами войн и других бедствий, пришедшихся на период становления личности.
Таким образом, поколение объединено похожим мировосприятием, основанным на общности коллективной памяти. Поэтому люди, разделённые временем, не могут полностью принять и понять картины мира друг друга. Отсюда возникает известный конфликт поколений - "отцов и детей". И актуальным он будет оставаться до тех пор, пока существует человек, а точнее, пока он обладает памятью.
Соответственно, отношение общества к различным историческим событиям во многом зависит от смены поколения. Примерно каждые тридцать лет происходит пересмотр восприятия прошлого, поскольку к этому процессу приступает новое поколение. Фокус смещается, отдавая приоритет более актуальным событиям и процессам. То, что ранее считалось более важным, находилось в центре внимания, отходит к периферии. Это особенно важно при рассмотрении травматических событий, которые первым поколением вытесняются и замалчиваются, а вторым осознаются и анализируются. Процесс осознания исторического опыта в полной мере начинает происходить лишь спустя около тридцати лет после трагических событий - на "местах памяти" организуются памятные мероприятия, открываются музеи. Так, например, Мемориал ветеранов войны во Вьетнаме был сооружён через 25 лет после начала конфликта, а правительство Вьетнама стало оказывать активную помощь американским специалистам в поиске братских могил и пропавших без вести лишь в 90-е годы.
Понятие коллективной памяти с момента своего введения французским социологом Морисом Хальбваксом в 20-е годы прошлого столетия и до наших дней остаётся спорным. Некоторые исследователи утверждают, что оно фиктивно, однако чаще всего ими осуществляется замена собственным термином, описывающим тот же предмет. Например, Сьюзен Зонтаг в качестве коллективной памяти использует понятие "идеология", широко распространённое в дискурсе 60-х и 70-х годов, когда главной темой в обществе была политика. Любая символика, так или иначе используемая для осознания индивидуальной или национальной идентичности, воспринималась как средство манипуляции. Смена поколения, потепление отношений между Западом и Востоком в результате начавшейся в СССР "перестройки" позволили пересмотреть отношение к образам. Возникает целое научное направление, изучающее различные образы и трактующее их значения. Среди специалистов, занявшихся этой сферой, стоит выделить Корнелиуса Касториадиса и Жака Лакана с их "социальным воображаемым" и "воображаемое сообщество" Бенедикта Андерсона.
В структуре коллективной (национальной) памяти важное место занимает миф - упрощённая репрезентация исторического опыта, передающаяся от поколения к поколению. Мы говорим о мифе не как о намеренном искажении фактов, которое стремятся выявить, раскритиковать и устранить историки, а как о продукте самоидентификации человека через осмысление прошлого. В большинстве случаев собственная история усваивается не через исторические факты, а через их интерпретацию сквозь призму настоящего. Таким образом, миф обрастает подробностями и уточнениями, которые привносит в него каждое поколение, обращающееся к своей истории.
Мифологизация долгое время критиковалась как "плод идеологической работы". Однако если принять во внимание, что идеология есть не что иное, как коллективная память, то в этом случае миф служит основой культурной конструкции, отражающей условия настоящего. То есть, намного более важным становится не вопрос "что было?", а "как мы вспоминаем об этом?". Мифологизация - это естественный процесс, который происходит с любой нацией. Его можно сравнить с тем, как человек искажает, часто намеренно, свои собственные воспоминания, усиливая их или, наоборот, затемняя, в зависимости от того, какие эмоции они вызывают. С возрастом процесс искажения сохраняется, но он может приобретать формы, абсолютно отличные от тех, что были ранее. И эти отличия могут многое сказать о том, как личность этого человека изменилась за прошедшие годы. Поскольку коллективная память обладает свойствами, схожими с индивидуальной, то весь описанный выше процесс присущ и ей.
Определяя степень важности коллективной памяти для нации, французский философ ХIХ века Эрнест Ренан вывел и само понятие нации, которое в контексте нашего исследования представляется наиболее точным: "Разделять в прошлом общую славу и общие сожаления, осуществлять в будущем ту же программу, вместе страдать, наслаждаться, надеяться, вот что лучше общих таможен и границ, соответствующих стратегическим соображениям; вот что понимается, несмотря на различия расы и языка. Я сказал только что: "вместе страдать". Да, общие страдания соединяют больше, чем общие радости. В деле национальных воспоминаний траур имеет большее значение, чем триумф: траур накладывает обязанности, траур вызывает общие усилия" .
Вероятно, именно поэтому относительно молодое американское государство до сих пор прикладывает столько усилий в процессе шлифовки собственной нации. С этой целью используются различные монументальные творения - памятники, мемориалы, отмечающие выдающиеся достижения, храбрость и силу представителей американской нации на фоне уже осознанных событий прошлого. Ведь существуют и те "страницы", которые ещё не пережиты до конца. Так, например, в Финиксе ни одна улица не названа в честь убитого там знаменитого оратора и борца за права чернокожих Мартина Лютера Кинга, а в Далласе нет ни одного памятника или мемориала, посвящённого президенту Джону Кеннеди. В этих городах спустя, опять-таки, 30 лет были открыты лишь музеи, посвящённые этим трагическим событиям, что можно считать первым полноценным шагом на пути их осмысления. История самым активным образом мифологизируется и осваивается американской литературой и кинематографом. Это происходит, как указывалось выше, с любой нацией в мире, вне зависимости от того, сформирована она или ещё только на пороге своего рождения. Однако, наверное, ни одна страна в мире не тратит на это столько средств, сколько это делает США последние 100 лет. Это связано с тем, что, вступив после Первой мировой войны в когорту великих мировых держав, США не обладали сравнимой с остальными её членами полнотой исторической хроники. Тысячи "пустых страниц" пришлось заполнять тем, что имелось в распоряжении скромной, на тот момент полуторавековой американской истории. Этим объясняется такое активное стремление к осмыслению и переосмыслению фактов и событий прошлого. Опираясь не на художественные методы, а на теорию индивидуальной/коллективной самоидентификации, США можно сравнить с молодым деятельным человеком, который, подстёгиваемый естественным любопытством и значительным энергетическим потенциалом, тяготеет к изучению, опознанию, принятию или непринятию самых различных теорий и фактов прошлого. Это отступление обсуждается в третьей главе, в которой разобраны некоторые произведения американского кинематографа.
При описании свойств и значений коллективной памяти упоминались принципы неотделимости прошлого от будущего, смены поколений, в общем виде были описаны понятия "миф" и "нация". В основе культурной памяти лежит ещё один важный процесс - забвение.
Забвение служит не просто средством очистки, но одним из основных принципов человеческой памяти. Забвение стирает трагические воспоминания, освобождая сознание от страданий и бесконечного переживания случившегося. Это относится как к индивидуальной памяти, так и к коллективной. Кроме того, функция забвения служит для фильтрации огромного количества бесполезной информации, что особенно актуально для современного человека, живущего в эпоху Интернета и бесконечных информационных потоков. В сознании постоянно освобождается место для новых данных, без которых невозможен процесс совершенствования человека. Аналогичным образом устроена культурная или социальная память, которая заменяет устаревшие понятия и творения на более актуальные, порождая так называемые "тренды" эпохи. Например, в эпоху Возрождения, когда европейцы получили колоссальный для того времени массив новой информации из переведённых арабских источников, многие деятели Средневековья и их труды были фактически забыты или сдвинуты на периферию общественного внимания.
Забвение часто становится стратегией развития культуры. Например, целенаправленному забвению были преданы еретические трактаты и учения, которые признавались таковыми римской католической церковью, а также и сами еретики, отлучённые от церкви за свои убеждения. Многие талантливые деятели искусства, полководцы и политики забыты навсегда за то, что отступили от принятых канонов человеческого развития. Столь же печальной и во многом неизбежной оказалась судьба тех, кто находился в тени своих более восхваляемых обществом современников. В этом плане показательна судьба композиторов Игнаца Хольцбауэра и Граупнера, оказавшихся в тени Моцарта и Баха соответственно.
По Бауману, смысл культуры состоит именно в том, чтобы правильно отобрать и сохранить выдающиеся образцы деятельности человечества, то есть заставить процесс коллективного забвения работать по настроенному плану. Подобные системы создаются в каждой стране, которая пытается ограничить процесс "расползающегося", неподконтрольного забвения.
Франклин Анкерсмит в своей фундаментальной работе "Возвышенный исторический опыт" выделяет четыре основных типа забвения.
Первый тип отвечает за те незначительные подробности и детали, с которыми мы вынуждены сталкиваться ежедневно, и от которых, в подавляющем большинстве случаев, не зависит процесс формирования нашей идентичности. От этой информации память может смело избавляться без угрозы для нашей психики, социальной деятельности или политики. Однако наша повседневная жизнь может состоять из неожиданных находок и сюрпризов, которые серьёзным образом влияют на нашу жизнь и могут кардинально изменить её. Но мгновенно опознать такие моменты чаще всего не представляется возможным. Для таких случаев существует второй тип забвения.
Основа второго типа забвения лежит в сравнении истории с психоанализом. Фрейд считал, что самым важным в анализе психической картины мира человека является выявление мельчайших, глубоко забытых подробностей прошлых лет его жизни, которые могут иметь решающее значение в процессе самоидентификации. Это становится возможным лишь после смены ракурса взгляда на эти жизненные детали и события. Способностью сменить ракурс, по Фрейду, должны обладать психоаналитики. Как обычный человек не может, в большинстве случаев, объективно оценить значимость отдельных событий своей жизни, так и историки часто забывали о некоторых важных свершениях прошлого, не с целью дискредитировать ход истории, а потому что не видели в них той реальной значимости, которую представляли эти свершения. Например, ещё в начале ХIX века считалось, что история - это описание жизни, работы и противостояний государственных деятелей или наиболее выдающихся деятелей эпохи. Социально-экономические, культурные вопросы рассматривались поверхностно, им не придавалось особого значения. Подобный взгляд на национальную историю стал меняться лишь с наступлением эпохи Реставрации, когда появились такие историки как Франсуа Гизо, Огостен Тьерри, Карл Маркс и некоторые другие материалисты, которые, подобно психоаналитикам, призвали подробно рассмотреть те темы и проблемы, которым ранее не придавалось никакого значения.
Третий тип забвения связан с событиями прошлого, которые человек предпочёл бы забыть, поскольку они слишком болезненны, чтобы стать частью коллективного сознания. Наиболее наглядным и актуальным примером здесь являются катастрофические события Второй мировой войны. Если многомиллионные военные жертвы и неисчислимые разрушения начали обсуждаться и осознаваться в первое же десятилетие после войны, то Холокост вызывал невыносимые душевные страдания, как у его жертв, так и у тех, кто имел отношение к организации геноцида. Поэтому достаточно долгое время эта тема не находила отклика, оставаясь в коллективном бессознательном, то есть память о ней сохранялась, но одновременно была недоступна сознательной её части. При этом, даже находясь под постоянным давлением бессознательного, идентичность человека не подвергалась болезненным изменениям.
Существует и четвёртый тип забвения, которому Анкерсмит посвящает наибольшую часть своих рассуждений. Голландский историк апеллирует к таким событиям, как Великая буржуазная революция во Франции и переход от Средневековья к Новому времени - эпоха Возрождения. Эти события сопровождались четвёртым типом забвения, который привёл к тяжёлому разрыву с прошлым и изменению идентичности. Лучше всего этот крайне болезненный процесс передаётся в громком словосочетании, которое было повсеместно распространено среди мыслителей того времени - "смерть Бога". Это означало неминуемый конец прошлого жизненного уклада. Промышленная революция, которая сначала грянула в Англии, а затем и в других странах Европы, коренным образом изменила сознание западного человека, потеснив из него религию, на которую он опирался практически во все предыдущие столетия. Входя в новый мир, европейцы должны были целиком отказаться от прошлого, забыть о нём, как и о своей прежней идентичности. Конечно, этот процесс был крайне мучительным, и не всем удавалось вступить в новую жизнь без потерь. Но это вступление было возможно только при условии забвения старого мира и порядка.
Подытоживая написанное, можно отметить, что память является социальным конструктом, который воплощён в коммуникации с другими людьми. Без памяти невозможно осмысление прошлого, на котором, в свою очередь построено восприятие настоящего. Таким образом, самоидентификация человека и всего общества тесно связаны друг с другом.
Война во Вьетнаме - это событие, так или иначе, повлиявшее на коллективную идентичность американского народа, оставившее в его сознании достаточно серьёзную травму, осознание и принятие которой происходит до сих пор. В дальнейшем исследовании несколько раз обсуждается понятие травмы, поэтому представляется необходимым разобрать это понятие более подробно, опираясь на труды Алейды Ассман и упомянутого выше Франклина Анкерсмита.
Культуры воспоминаний» в исторической и сравнительной перспективах.
Ян Ассман. Помнящая культура
В случае «помнящей культуры» в отличие от «искусства запоминания» речь идет о выполнении социального обязательства, а не совершенствовании индивидуальной способности. В случае когда вопрос «Чего нам нельзя забыть?» стоит в центре внимания, он определяет идентичность и самопонимание группы («общность памяти» по П.Нора).Помнящая культура имеет дело с «памятью, создающей общность». Невозможно представить никакого социального объединения, в котором не просматривались бы ее формы.
Помнящая культура основывается на формах обращенности к прошлому (тезис –> прошлое возникает в силу того, что к нему обращаются). Для того, чтобы к прошлому можно было обращаться необходимы следующие условия:
1) Нельзя, чтобы оно исчезло полностью – должны иметься свидетельства
2) Свидетельства должны обладать характерным отличием от «сегодня» (в качестве примера - языковые изменения)
1. Социальное конструирование прошлого: Морис Хальбвакс
В 20е гг французский социолог Морис Хальбвакс разработал понятие «коллективная память» - основанное на установление нерасторжимой связи и взаимообусловленности групповой памяти и группы. Индивидуальные воспоминания суть социальный феномен, а тот факт, что только отдельные личности могут иметь память (благодаря наличию у них особой нервной системы) не меняет зависимости индивидуальных памятей от социальных «рамок».
На его научные работы оказали влияние следующие ученые: а) Бергсон (в философии которого тема индивидуальной памяти занимает центральное место); б) Дюркгейм (чье понятие коллективного сознания дало опору стремлению преодолеть бергсоновский субъективизм; память как социальный феномен).
Индивидуальная vs. коллективная память
Центральный тезис в работах Х. – социальная обусловленность памяти, полностью отвлекается от физической основы памяти (физиологии нервной системы и мозга). Память возникает в процессе социализации – через коммуникацию и взаимодействие в рамках социальных групп.
На основе теории «рамочного анализа» Э.Гофмана (исследующего социально заданную структуру или «организацию» повседневного опыта), Хальбвакс вводит понятие «социальных рамок». Проведя «рамочный анализ» воспоминания (аналогично гофмановскому анализу опыта) объявил коллектив субъектом памяти и воспоминания. Субъектом памяти и воспоминания всегда остается один человек, но он зависим от «рамок», организующих его память. Преимущество теории – способна объяснить не только память, но и забвение. ВЫВОД: индивидуальная память создается в каждой отдельной личности благодаря ее участию в процессах коммуникации. Память живет благодаря этому процессу. Забвение следует, если коммуникация прекращается или изменяются референциальные рамки коммуникативной реальности. Мы помним только то, что можем сообщить и для чего можем найти место в рамках коллективной памяти. Индивидуальная память – уникальная комбинация коллективных воспоминаний, вместилище связанных с группами коллективных памятей.
КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ И ИСТОРИЯ*
| З.А. Чеканцева
Аннотация. История и память были связаны всегда: не случайно в греческой мифологии Клио - дочь Мнемозины. Однако лишь в XX веке память стала объектом интенсивной рефлексии и исследования. Размышляя о соотношении истории и памяти, автор показывает, каким образом выявление новых возможностей памяти способствовало обновлению представлений о подвижности социального мира и изменчивости прошлого. Современные исследования социальной истории памяти убеждают в том, что привычное противопоставление истории и памяти утратило свое значение. Более того, способы «присвоения прошлого», формирующиеся в триаде история/память/политика, определяют характер моделей истории, принятых в социуме.
Ключевые слова: история социальной памяти, модели истории, политика памяти.
COLLECTIVE MEMORY AND HISTORY
I Z.A. Chekantseva
Abstract. History and memory have always been connected. It is not by accident that in Greek mythology Clio is the daughter of Mnemosyne. However, 229 the memory has become the subject of intense reflection and study only in the twentieth century. Reflecting on the relationship between history and memory, the author shows how the identification of new memory opportunities contributes to the renewal of ideas about the mobility of social world and variability of the past. Modern studies of the social history of memory make it certain that the usual opposition of history and memory has lost its meaning. Moreover, the methods of the «appropriation of the past», formed in the triad of history / memory / politics, define historical models accepted in the society.
Keywords: history of social memory, models of history, memory policy.
В психологии память имеет индиви- бвакс (1877-1945) ввел в науку идею дуальную природу . Однако коллективной памяти. Его монография французский социолог Морис Халь- «Социальные рамки памяти», вышед-
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант № 15-18-00135.
шая еще в 1925 г. , оказалась широко востребованной в гуманитарных науках последних десятилетий. Хальбвакс показал, что в сознании отдельного человека запоминание и припоминание фактов обусловлено во многом «рамками», которые конституируются социумом (речь, представления о пространстве и времени и т.д.). «Коллективная память», полагал Хальбвакс, это особые формы «присутствия прошлого» (традиции, понятия, школьные знания, символы и проч.), которые формируются и живут в недрах социальных институтов и коллективов (семья, школа, религия, класс). Размышляя о динамике этих форм, социолог, опережая свое время, выходил в ту область исследований, которая сегодня связана с проблематикой культурной памяти.
Хальбвакс положил начало социологическому исследованию памяти, и в полемике с его идеями сформировались все новые подходы к этой теме, разработанные за последние 80 лет. Французский историк Марк Блок в рецензии на его книгу, опубликованную ЧОП в том же 1925 г., критикуя Хальбвакса 230 за антропоморфизм в представлениях о коллективной памяти, обратил внимание на то, что речь должна идти не о том, что группа имеет память подобно индивиду, но о том, что все мемориальные процессы представляют собой «факты коммуникации» .
Сегодня тема памяти занимает очень большое место в гуманитарном дискурсе. Она привлекает внимание не только социологов, но историков, литераторов, антропологов, психологов, философов, биологов. Наиболее интересные подходы к изучению памяти возникают на пересечении этих дисциплин, в особенности на стыке с нейробиологией. По наблюдению Пье-
ра Нора, в последние тридцать лет мы живем в «мемориальную эпоху». Этот интерес к феномену памяти определяется прежде всего существенными трансформациями современного мира и связанными с ними экзистенциальными потребностями людей. Среди таких трансформаций обычно называют небывалое ускорение времени и новую роль социума .
Надо сказать, что история и память были связаны всегда: не случайно в греческой мифологии Клио - дочь Мнемозины. Однако память как особый феномен стала объектом рефлексии и исследования только в XX веке. Изучив импликации концепта память в важнейших текстах культуры модернизма, современный исследователь пишет: «Открытие новых возможностей "памяти" изменило ХХ век не меньше, чем открытие ядерной энергии. В ХХ1 веке даже стал возможным дискурс об "экологии памяти": современные педагогические практики все меньше основываются на заучивании и все больше развивают умение рассуждать и общаться, работать с полученной информацией на практике. Судебные процедуры все меньше внимания уделяют свидетельским показаниям, бюрократические - сжимают сроки действия большинства ГО. Детальное исследование этих трансформаций еще предстоит» . Однако историки довольно поздно обратили внимание на феномен памяти, полагая вслед за Хальбваксом, что память не имеет ничего общего с историей, более того - она противоположна ей. Но так случилось, что именно историки внесли значительную лепту в осмысление памяти. Последней посвящены целые библиотеки книг, в которых, помимо прочего, на конкретном матери-
але показано, что за последние несколько веков во взаимоотношениях истории и памяти произошли значительные перемены .
Схематично вехи этих перемен можно представить следующим образом:
В Средние века - история подчинена памяти (занятия историей были включены в мнемонические практики).
В XIX веке - история стала научной дисциплиной и институтом, находящемся на службе государства-нации. Такая история считалась носителем единственной исторической «правды» и в таком качестве она подмяла под себя память. В этой модели истории «чистое» знание о прошлом и всегда «нечистая» память считались несовместимыми.
В XX веке, в ходе которого память в качестве объекта изучения постепенно стала втягиваться в историопи-сание, родилась другая модель истории. Кульминацией ее формирования была интеллектуальная революция в западном гуманитарном познании, затронувшая и историографию. Пьер Нора, выступая в Институте всеобщей истории РАН в январе 2010 г. на международном круглом столе «История, историки и власть», сказал: «С 1970-х по 1990-е гг. мы стали свидетелями удивительного расширения и даже революции в историческом сознании и познании... Память придала истории новый импульс, обновила подходы к прошлому и проникла во все периоды и отрасли исследования» .
Из этой революции историческая наука вышла радикально обновленной. Она говорит на другом языке и служит теперь не столько государству-нации, сколько обществу и культуре.
Более того, сегодня она все активнее пересекает национальные границы, пытаясь создать новую «всеобщую» историю Европы и мира, свободную от европоцентризма и способную выдержать испытание на «истинность» на «формирующемся рынке мировой памяти» (так французский историк Патрик Гарсия назвал процесс интернационализации памяти). Есть основания полагать, что это более зрелая наука, соответствующая сложностям современного мира и постоянно возрастающей трудности совместного проживания людей. Возможно, главное заключается в том, что ныне историки более чем когда-либо озабочены сохранением интеллектуальной честности и более открыты к новому опыту и миру.
Разумеется, в процессе формирования этой новой модели истории задействовано множество процессов и факторов. В прошлом веке национальные идентичности, подорванные мировыми войнами, были заменены социальными идентичностями. Это было время проблематизации национальной модели историописания. Появились мощные движения эмансипации социальных групп, каждое из которых требовало своей памяти и своего признания нацией. Постепенно «национальная память» стала вытесняться памятью групповой. Это предопределило изменение взаимоотношений между памятью и историей. Стало ясно, что между индивидуальной памятью и историей находится социальная история памяти.
Основательно изучив на конкретном материале различные формы социальной памяти, историки пришли к выводу, что, несмотря на известные различия истории и памяти, они тесно переплетены друг с другом, их
многое сближает. Память - это не просто отражение «прошлого», но сложный процесс, происходящий в настоящем. Она неотделима от воображения и ментальных образов, которые вместе с людьми творят историю. Сегодня, когда историк теряет свое некогда монопольное право на интерпретацию прошлого и делит эту территорию с журналистами, политиками, литераторами, юристами, общественными организациями, любая история становится «историей во второй степени», то есть историей переосмысления всех состоявшихся репрезентаций исследуемого явления. В этой модели истории единицей анализа «прошлого» является «факт коммуникации», историческое представление, оформленное как высказывание и вынесенное в поле общения .
Наряду с содержательным и формальным анализом исторического высказывания, которые не всегда дают убедительные результаты, историки все активнее прибегают к прагматике, то есть пытаются анализировать восприятие и воздействие такого высказы-232 вания. В эпистемологии это явление получило название перформативного или прагматического поворота. Напомню, что Джон Остин разделил в свое время все речевые акты на констати-вы, воплощающие в себе некоторое положение дел, и перформативы - высказывания, вносящие в жизнь изменения, причем, не обязательно такие, какие имел в виду говорящий. Позже филологи показали, что во всяком высказывании соединяются обе функции (что еще больше усложняет исторический анализ). Понимание перформа-тивной природы высказываний позволяет соединить в исследовательской процедуре репрезентации и практики.
Историки уже много сделали для изучения исторических явлений в разных хронотопах, учитывая перфор-мативную природу высказываний и действий в разнообразных контекстах. При этом обнаруживаются очень интересные вещи. Например, одно дело рассказать «внешнюю» материальную историю Храма Христа Спасителя в Москве (построен при Александре I, разрушен в 1931 г., восстановлен при Ельцине) и совсем другое - попытаться осмыслить эту историю как символическое место национальной памяти, выясняя смыслы, которые вкладывали в события, связанные с храмом, его строители/ разрушители/ восстановители, и как это воспринималось современниками и воспринимается сегодня разными социальными группами. В ходе такого изучения, помимо прочего, выясняется, что исторический материал в реальной жизни является одновременно и научным, и эмоциональным аргументом. Именно это обстоятельство объясняет то, что использование «прошлого» может быть как политически эффективным, так и наоборот неэффективным .
Интеллектуальные историки убедительно показали наличие идеологического измерения во всех исторических текстах. Связано это не только с ангажированностью историков и внешним давлением на них, но и с невозможность устранить субъективность историка из написанного им текста. Другими словами, это связано с конструктивисткой природой исторического познания. Это означает, что политика присутствует во всех моделях истории. Разница заключается в том, что в новой модели историки, принимающие конструкционисткую установку, более изобретательно изу-
чают в междисциплинарном режиме связи исторического/ мемориального и политического. Кроме того, историки, работающие в русле такой модели историописания, перестали считать себя «жрецами» Клио, носителями единственно верной интерпретации. Плюралистическое видение истории в этой модели - норма. Более того, произошло радикальное «уравнивание в правах» собственно научного знания и знания, находящегося за пределами науки, причем не только в сферах философии, теологии, искусства, но и в царстве обыденного «общего смысла», с которым в традиционной исторической модели не очень считались.
Память изучают историки разных стран, но это изучение происходит в разных контекстах. Поэтому его характер и результаты отличаются разнообразием. Наибольших успехов в исследовании феномена памяти, по общему мнению, добились французские историки. Активно работают специалисты других европейских стран (Германия, Англия, Испания, Италия, страны Восточной Европы), а также ученые других континентов.
В гуманитарном дискурсе нашей страны тема памяти присутствует. Идет большая теоретическая работа, связанная с осмыслением взаимоотношений в триаде история/память/политика. Обсуждаются концепты, уточняются подходы, проводятся научные мероприятия. Особенно много делается в рамках Российского общества интеллектуальной истории, президентом которого является член-корреспондент Российской академии наук Л.П. Репина. Появились замечательные конкретно-исторические исследования, которые вполне вписываются в новую модель истории, а также историогра-
фические исследования, свидетельствующие о том, что и в России в последнее десятилетие произошел мемориальный поворот . Одним словом, перемены в понимании феномена памяти и его связей с историей происходят, хотя медленно и даже драматично. Внушает оптимизм то, что историки не только пишут убедительные и доступные массовому читателю конкретно исторические исследования в русле новой модели истории, но и учебники для детей. Потому что взрослые люди (в том числе люди, принимающие властные решения) чаще всего в своем отношении к истории пребывают во власти стереотипов мышления, сформированных еще в школе. И все же в современной России (как и на всем постсоветском пространстве) до сих пор доминирует традиционная модель истории, утвердившаяся в XIX веке. Так же, как в советское время, память об исторических событиях скорее служит легитимации политического режима, нежели имеет непосредственное отношение к истории. Контроль над прошлым остается необходимым условием контроля над настоящим. Материалов, подтверждающих это наблюдение, много, в том числе в Интернете. Причина, видимо, в том, что долгие годы интеллектуальной изоляции вынуждают нас и сегодня работать в догоняющем режиме. Это характерно не только для историографии, но и для всего корпуса социальных наук.
Лучше других оказались подготовленными к мемориальному натиску французские историки. Уже в период глубокого мировоззренческого кризиса между двумя мировыми войнами они постепенно стали отходить от представлений об истории как способе легитимации государства-нации и об-
ратили внимание на общество. Изучая ментальности, то есть присутствующий в жизни любого социума «эфир», который формируется в повседневной практике людей и одновременно формирует эту практику, они осознали необходимость пересмотреть взаимоотношения памяти и истории. «Время памяти пришло тогда, когда историки стали понимать ее связь с историей коллективных ментальностей», - пишет Патрик Хаттон . Особенно важную роль здесь сыграло изучение коммеморативных практик, праздников, ритуалов, церемоний, образов и представлений. Так и не ставшая в годы расцвета истории ментальностей предметом размышлений проблематика памяти поставила перед новыми поколениями историков более интересные критические вопросы. Историки поняли, что изучение памяти, не обладающей подлинной объяснительной силой, может быть полезно в процессе выявления и артикулирования связей между культурным, социальным, политическим, между представлениями и социальным опытом.
Начиная со второй половины 1970-х гг., память становится важнейшим объектом исторического исследования. Опираясь на размышления Хальбвак-са, Пьер Нора так определил в 1978 г. коллективную память: «коллективная память - это то, что остается от прошлого в жизни групп или то, что группы делают из прошлого». Превращение истории памяти в компонент коллективных репрезентаций конкретных групп, всегда зависящих от нужд настоящего, сделало такой тип историо-писания очень популярным. Эта большая работа спровоцировала «решительный и освобождающий развод» (П. Нора) между памятью и историей.
Пришло осознание того, что «французский национальный роман», вдохновленный талантом Э. Лависса, на самом деле был не объективной формой национальной истории страны, но «историей-памятью», сформировавшейся в русле ангажированной государством-нацией исторической науки. Историки обратились к изучению мнемонических техник, не только в прошлом, но и в таких современных культурных практиках, как автобиография, психоанализ, коммеморация. В целом история современности занимает все более важное место в исторической профессии. Институционально это нашло воплощение в создании Института настоящего времени (1978 г.).
Все больше внимания историки стали уделять проблемам риторики. Их интересовала, в частности, способность языка формулировать идеи, а также то, каким образом риторические формы могут применяться в политике. Изучая историю коммемораций, они стремились показать, как использовали коммеморативные ритуалы и памятники те, кто этим занимался. Другими словами, историки интересовались памятью как средством мобилизации политической власти и пытались понять риторику и природу пропаганды. Постепенно стало ясно, что работа с памятью, ее историзация обогащает усилия историков по осмыслению «прошлого». Возникли представления об альтернативных возможностях толкования истории. Под вопрос был поставлен европоцентризм (историки открыли другие миры), усложнилось понимание наследия.
Кульминацией ответа французских историков на мемориальный бум явился знаменитый проект Пьера Нора «Места памяти» . Впро-
чем, для того чтобы понять смысл и значение этого проекта, потребовалось время. В одной из новых книг Франсуа Артог показал, что «Места памяти» П. Нора являются «символом и вектором презентизма, поскольку память служит важнейшим критерием выбора для историка, который, изучая события, институты, памятники, персонажи, работает... как хорошо подготовленный и внимательный слушатель прошлого, присутствующего в поле настоящего» . Филипп Жутар, полагает, что хотя проект был задуман как «контр-мемори-альная» история, очень скоро понятие «место памяти» стало главным «инструментом коммеморации» .
По определению Пьера Нора «Место памяти - это всякая существенная целостность материальная или идеальная, которая по воле людей и по воле времени является символическим элементом мемориального наследия некой общности». Важно при этом, что это «место» способно менять свои очертания, воспроизводиться и вновь повторяться. Назвать исторический объект «местом памяти» означало дать слово настоящему времени как реальному пользователю прошлого. Память, как и историк, всегда в настоящем, хотя и предполагает воскрешение отсутствующего в этом настоящем прошлого. Поэтому проект Нора открывал путь к другой истории: «не истории прошлого, которое прошло, но истории последовательного использования уже прошедшего». Речь идет об истории, принимающей во внимание мемориальную слоистость объекта изучения, позволяя историкам осмысливать его темпоральную форму, с тем, чтобы это прошедшее понять/присвоить/преодолеть. Такой способ мышле-
ния способствовал тому, что историческая критика трансформировалась в критическую историографию .
Изучение памяти заставило историков более интенсивно размышлять об эпистемологических проблемах своего ремесла. Кроме того, в условиях презентизма свидетели получили в обществе большее признание и доверие, чем профессиональные историки, которые поначалу сами стали жертвами этих перемен. В частности, под давлением памяти усилились сомнения в возможностях истории как науки и в ее будущем. Попав в капкан памяти, французские историки не ограничились тем, что создали новую область исследования - историю памяти. Обстоятельно изучив это явление в междисциплинарном режиме, они использовали мемориальный инструментарий для того, чтобы исследовать особый вид коллективной памяти, о которой писал еще М. Халь-бвакс, - память историческую. Родилась история историков, то есть историография, понимаемая не как «идеологическое оружие» (так было в Советском Союзе), но как историче- 235 ская эпистемология, занимающаяся исследованием природы и процедур историографической операции.
Важным объектом интеллектуальной истории стала «политика памяти», понятая как власть стереотипов мышления, воздействующих из прошлого на настоящее. Другими словами, историки убедительно показали «властную природу историографических концеп-туализаций» (Ф. Фюре). Один пример. Хорошо известно, что национальный праздник французов - 14 июля. Но большинство людей, изучающих историю в русле революционной традиции, уверены до сих пор, что они отмечают
день взятия Бастилии. Между тем, праздник был установлен республиканцами в 1880 г. в связи с Праздником федерации, который отмечался в период французской революции как день Республики. И современные французы отмечают день Республики.
Такое понимание «политики памяти» чаще всего игнорируется перед лицом другой политики, подразумевающей стратегию использования образов прошлого в настоящем и их включение в планы будущего (имплицитную или эксплицитную). Разумеется «политика памяти», связанная с политической стратегией, тоже существует и ее надо учитывать. Ее воплощением, в частности, является так называемая «официальная история», существующая в большинстве стран. Однако эта «официальная версия» отнюдь не является лишь проявлением волюнтаризма политиков (хотя это тоже имеет место). Исследование проблематики памяти позволяет выявить глубинные основы официальной «исторической политики». Коммеморации, как правило, предполагают участие значительной массы людей и в то же время содержат определенные политические стратегии, которые не сразу прочитываются. Изучение коммеморативных практик и дискурсов позволяет ученым выявить содержание таких стратегий, прикрывающихся политикой памяти или даже «долгом памяти» . Важнейшим направлением такого поиска стало изучение историографических традиций и современных культурных практик. В частности, историкам удалось убедительно продемонстрировать в материале, как на пересечении культуры памяти и культуры производства исторической продукции формируется модель
истории в конкретном социуме. Конечно, память и история - это разные и даже противоположные формы «воскрешения» ушедшей реальности. Однако современные исторические исследования обосновывают нерасторжимость их «брачного союза» и описывают условия его возможности. Такая работа позволяет превзойти чисто ретроспективное видение «прошлого» и отыскать «прошлое» как «настоящее, которое уже было», способствуя дефатализации истории.
Во Франции, как и в других странах, давление на историю и историков сохраняется. У французских президентов по конституции 1958 г. есть право вмешиваться в решение исторических вопросов. Более того в XXI веке такое вмешательство усилилось. Но серьезные решения, касающиеся политики памяти, в развитых странах принимаются, как правило, в тесной увязке с интересами различных групп гражданского общества, равно как и интеллектуалов, и не в последнюю очередь определяются динамикой исторических исследований, поставляющих новые материалы. Так, официальная версия режима Виши во Франции, а также миф о Сопротивлении с 1970-х гг. претерпевает постоянную деконструкцию. Фильм М. Офюльса «Печаль и жалость» (1969), запрещенный для показа по государственному телевидению, не без оснований считают началом той фазы памяти о военном времени, которую историк А. Руссо назвал «разбитым зеркалом». Выжившие свидетели все чаще стали рассказывать о своем пребывании в лагерях. В 1973-м появился французский перевод книги американского историка Р. Пакстона «Франция в период Виши», который еще в 1964 г. проследил историю коллаборационизма по документальным источникам. Основанные на архивных материалах исследования А. Руссо «Синдром Виши: С 1944 года до наших
ти. Однако и объективность истории давно поставлена под сомнение. Не удивительно, что усиливается значимость рефлексивной составляющей в производстве исторического знания, интенсивно идет поиск новых подходов к материалу и нового исследовательского инструментария, активно обсуждается социальный статус исторического познания и роль исторического образования в культуре и социуме. Современные историки озабочены поиском таких способов историописания, которые позволили бы преодолеть тиранию прошлого/настоящего и найти подходы к овладению будущим . Их все больше интересует «не столько генезис, сколько дешифровка того, кем мы больше не является»; не столько ушедшее гомогенное прошлое, сколько прошлое, изломанное памятью, которая оттеняется в прерывностях истории. В таких способах написания истории, учитывающих субъектность историка, на первом плане оказывается историография как практика, позволяющая удовлетворить потребность в историческом познании и вместе с тем избежать ловушек наивного реализма по отношению к тому, что познается.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
дней» (1987) и Э. Конана «Виши: Прошлое, которое не проходит» (1994), а также открытые историко-политические дискуссии с участием профессиональных историков способствовали широкому общественному одобрению судебных процессов против военных преступников. В юридическом и в гражданском плане эти процессы против видных деятелей периода национал-социалистского господства во Франции имели огромное значение для политического просвещения и культуры памяти в стране.
Современные исследователи убедительно показали, что историческая политика (или политика памяти) в демократических обществах - «это намного более широкое явление, чем история на службе политики. Это также нечто большее, чем просто формирование и закрепление нормативного или догматического мировоззрения, поскольку включает в себя передачу самого разного рода воспоминаний и опыта, а также поиск забытых фактов и следов отвергнутых альтернатив. Историческая политика - это еще и тематика научных исследований с целью поиска ответов на вопросы о том, как исторические интерпретации превращаются в политическое противоборство, кто и с какой целью делает это и к чему это приводит» .
Проблематика отношений истории и 1. памяти в историографии опирается во многом на рефлексию философов, социологов, антропологов. Например, в своей последней монография «Память, история, забвение» Поль Рикёр располагает историю и память в плоскости непрерывного взаимодействия. Работа с памятью, по мнению з. философа, - это основное гражданское обязательство историка . Тем не менее, многие гуманитарии, в том числе историки,
весьма сдержанно относятся к истории памяти, учитывая непостоянство последней и возросшую доступность инструментализа- 5 ции истории, связанной с политикой памя-
Grand dictionnaire de la psychologie / H. Bloch, R. Chemama, A. Gallo, P. Le-conte, J.F. Le Ny, J. Postel, S. Moscovici, M. Reuchlin et E.Vurpillot (dir.). - Larousse, 1991, nouvelle édition 1994. Halbwachs, M. Les Cadres sociaux de la mémoire / M. Halbwachs. - Paris: Albin Michel, 1925.
Bloch, M. Mémoire collective, tradition et coutume. A propos d"un livre récent Text] / M. Bloch // Revue de synthèse historique XI (nouvelle série XIV). - 1925. - No. 118-120. - P. 73-83. Нора, П. Всемирное торжество памяти [Текст] / П. Нора // Неприкосновенный запас. - 2005. - Т. 2-3.
Потапова, Н. Тема «памяти» в культуре модернизма [Текст] / Н. Потапова // Рос-
сия XXI. - 2012. - № 3. - С. 86-117; № 4.
6. Pomian, K. De l"histoire, partie de la mémoire, à la mémoire, objet d"histoire / K. Pomian // Revue de métaphisique et de moral. - 1998. - No. 1.
7. Круглый стол «История, историки и власть», ИВИ РАН, 2010 [Электронный ресурс]. - URL: http://www.urokiistorii.ru/ memory/conf/2010/03/istoriya-istoriki-vlast-txt (дата обращения: 15.07.2013).
8. Венедиктова, Т. История между Past и Present Perfect. Рецензия на кн: Феномен прошлогою (М., 2005) [Текст] / Т. Вене-диктова // Новое литературное обозрение.
2006. - № 80.
9. Landry, T. Lieux de pouvoir et micropolitique de la mémoire: l"exemple de la Cathédrale du Christ Sauveur à Moscou / T. Landry // Politique et sociétés (Montréal). - 2003. - No. 22.
10. Век памяти, память века: Опыт общения с прошлым в ХХ столетии [Текст] / Сб. статей [под ред. И.В. Нарского, О.С. Нагорной, О.Ю. Никоновой, Ю.Ю. Хмелевской]. -Челябинск: Изд-во «Каменный пояс», 2004.
11. Данилевский, И.Н. Александр Невский: Парадоксы исторической памяти [Текст] / И.Н. Данилевский // «Цепь времен»: Проблемы исторического сознания. - М.: ИВИ РАН, 2005.
12. Историческая политика в XXI веке: Сборник статей [Текст] / Ред. А. Миллер, М. Липман. - М.: Новое литературное обозрение, 2012.
13. Кознова, И.Е. XX век в социальной памяти российского крестьянства [Текст] / И.Е. Кознова. - М.: ИФ РАН, 2000.
14. Копосов, Н.Е. Память строгого режима: История и политика в России [Текст] / Н.Е. Копосов. - М.: Новое литературное обозрение, 2011.
15. Кризисы переломных эпох в исторической памяти [Текст] / Под ред. Л.П. Репиной. - М.: ИВИ РАН, 2012.
16. Курилла, И. История и память в 2004, 2008 и 2014 годах [Текст] // Отечественные записки. - 2014. - № 3 (60) [Сайт «Журнальный зал»]. - URL: http://maga zines.russ.ru/oz/2014/3/4k.html (дата обращения: 6.10.2014).
17. «Работа над прошлым»: ХХ век в коммуникации и памяти послевоенных поколений Германии и России: сборник статей [Текст] / [редколл.: О.С. Нагорная и др.]. - Челябинск: Каменный пояс, 2014.
18. Репина, Л.П. Историческая наука на рубеже XX-XXI вв.: социальные теории и историографическая практика [Текст] / Л.П. Репина. - М.: Кругъ, 2011.
19. Шнирельман, В.А. Президенты и археология, или что ищут политики в древности [Текст] / В.А. Шнилерьман // Ab Imperio. - 2009. - № 1.
20. Хаттон, П. История как искусство памяти [Текст] / П. Хаттон / Пер. с англ. Ю.В. Быстрова. - СПб.: «Владимир Даль», 2003. (1993 анг.).
21. Nora, P. (dir.) Les lieu de mémoire / P. Nora. - 7 vol. - Paris: Gallimard, 1981-1993.
22. Hartog, F. Croire en l"histoire / F. Hartog. - Paris: Flammarion, 2013.
23. Joutard, P. Histoire et mémoires, conflits et alliance / P. Joutard. - Paris: La Découverte. Collection Ecriture de l"histoire, 2013.
24. Nora, P. Comment on écrit l"histoire de France / P. Nora // Les Lieux de mémoire. T. 3, vol. 1. - Paris: Gallimard, 1992, 24, 30.
25. Oushakine, S.A. Remembering in Public: On the Affective Management of History / S.A. Oushakine // Ab Imperio. -2013. - No. 1.
26. Шеррер, Ю. Отношение к истории в Германии и Франции: проработка прошлого, историческая политика, политика памяти [Электронный ресурс]. - URL: http://www.persp ektivy. info/book/ (дата обращения 12.12.2013).
27. Ricoeur, P. La mémoire, l"histoire, l"oubli / P. Ricoeur. - Paris: Le Seuil, 2000.
28. Шмитт, Ж.-К. Овладение будущим [Текст] / Ж.-К. Шмитт // Диалоги со временем. Память о прошлом в контексте истории / Под ред. Л.П. Репиной. - М.: Круг, 2008.
1. Bloch H., Chemama R., Gallo A., Leconte P., Le Ny J.F., Postel J., Moscovici S., Reuchlin M. et Vurpillot E.(dir.), Grand dictionnaire de la psychologie, Larousse, 1991, nouvelle édition 1994.
2. Bloch M., Mémoire collective, tradition et coutume. A propos d"un livre récent, Revue de synthèse historique XI, nouvelle série XIV, 1925, No. 118-120, pp. 73-83.
3. Danilevskij I.N., "Aleksandr Nevskij: Para-doksy istoricheskoj pamjati", in: "Tsep vre-men": Problemy istoricheskogo soznanija, Moscow, 2005. (in Russian)
4. Halbwachs M., Les Cadres sociaux de la mémoire, Paris, Albin Michel, 1925.
5. Hartog F., Croire en l"histoire, Paris, Flammarion, 2013.
6. Hatton P., Istorija kak iskusstvo pamjati, St-Petersburg: "Vladimir Dal"", 2003. (1993 ang.). (in Russian)
7. Istoricheskaja politika v XXI veke: Sbornik statej, Moscow, 2012. (in Russian)
8. Joutard P., Histoire et mémoires, conflits et alliance, Paris, La Découverte. Collection Ecriture de l"histoire, 2013.
9. Koposov N.E., Pamjat strogogo rezhima: Istorija ipolitika v Rossii, Moscow, 2011. (in Russian)
10. Koznova I.E., XXvek v socialnojpamjati rossi-jskogo krestjanstva, Moscow, 2000. (in Russian)
11. Krizisy perelomnyh jepoh v istoricheskoj pamjati, Moscow, 2012. (in Russian)
12. Kruglyj stol "Istorija, istoriki i vlast", IVI RAN, 2010 , available at: http://www.urokiistorii.ru/memory/conf/ 2010/03/istoriya-istoriki-vlast-txt (accessed: 15.07.2013). (in Russian)
13. Kurilla I., Istorija i pamjat v 2004, 2008 i 2014 godah, Otechestvennye zapiski, 2014, No. 3 (60) , available at: http://magazines.russ.ru/oz/2014/3/4k. html (accessed: 6.10.2014). (in Russian)
14. Landry T., Lieux de pouvoir et micropolitique de la mémoire: l"exemple de la Cathédrale du Christ Sauveur à Moscou, Politique et sociétés (Montréal), 2003, No. 22.
15. Nora P., (dir.) Les lieu de mémoire, 7 vol. Paris, Gallimard, 1981-1993.
16. Nora P., Comment on écrit l"histoire de France, Les Lieux de mémoire, t, 3, vol. 1, Paris, Gallimard, 1992, 24, 30.
17. Nora P., Vsemirnoe torzhestvo pamjati, Nepri-kosnovennyjzapas, 2005, T. 2-3. (in Russian)
18. Oushakine S.A., Remembering in Public: On the Affective Management of History, Ab Imperio, 2013, No. 1.
19. Pomian K., De l"histoire, partie de la mémoire, à la mémoire, objet d"histoire, Revue de métaphisique et de moral, No. 1, 1998.
20. Potapova N., Tema "pamjati" v kulture modernizma, Rossija XXI, 2012, No. 3, pp. 86-117; No. 4, pp. 58-79. (in Russian)
21. "Rabota nad proshlym": XX vek v kommuni-kacii i pamjati poslevoennyh pokolenij Ger-manii i Rossii: sbornik statej, Cheljabinsk, 2014. (in Russian)
22. Repina L.P., Istoricheskaja nauka na ru-bezhe XX-XXI vv.: socialnye teorii i istorio-graficheskaja praktika, Moscow, 2011. (in Russian)
23. Ricoeur P., La mémoire, l"histoire, l"oubli, Paris, Le Seuil, 2000.
24. Sherrer Ju., Otnoshenie k istorii v Germanii i Francii: prorabotka proshlogo, istoricheskaja politika, politika pamjati , available at: http://www.perspektivy.info/book/ (accessed: 12.12.2013). (in Russian)
25. Shmitt Zh.-K., Ovladenie budushhim, Dialo-gi so vremenem. Pamjat o proshlom v kon-tekste istorii, Moscow, 2008. (in Russian)
26. Shnirelman V.A., Prezidenty i arheologija, ili chto ishhut politiki v drevnosti, Ab Imperio, 2009, No.1. (in Russian)
27. Vek pamjati, pamjat veka: Opyt obshhenija s proshlym v XX stoletii, Cheljabinsk, 2004. (in Russian)
28. Venediktova T., Istorija mezhdu Past i Present Perfect , Novoe literaturnoe obozrenie, 2006, No. 80. (in Russian)
Чеканцева Зинаида Алексеевна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник, руководитель лаборатории исторической эпистемологии и публичной истории, Институт всеобщей истории, Российская академия наук; профессор, Российско-французский центр исторической антропологии им. Марка Блока, [email protected] Chekantseva Z.A., ScD in History, Chief Researcher, Head of the Laboratory of Historical Epistemo-logy and Public History, Institute of World History, Russian Academy of Science; Professor, M. Bloch Russian-French Center of Historical Anthropology, [email protected]
(грант 12-36-01024) «Образы коллективной памяти о переломных событиях российской истории у представителей различных поколений россиян»
УДК 159.9.316.6
Emelianova T. P. Collective Memory in Context of Everyday Political Consciousness
Аннотация ◊ Анализируются традиции изучения феномена коллективной памяти в рамках французской социологической школы, психоанализа, социологии сознания, психологии социального познания, а также социального конструкционизма. Приводятся результаты исследований различных аспектов коллективной памяти в отечественной и зарубежной науке.
Ключевые слова : коллективная память, политические события, коллективные представления, психология социального познания, социальный конструкционизм, политическое сознание.
Abstract ◊ The article analyzes various traditions of the studies on the phenomenon of collective memory in the context of the French sociological school, psychoanalysis, consciousness sociology, the psychology of social cognition, and social constructionism. The results of the investigations into different aspects of collective memory in the Russian and foreign academic school are listed.
Keywords : collective memory, political events, collective representations, social cognition, social constructionism, political consciousness.
1. Истоки возникновения понятия «коллективная память»
Изучая исторически сложившиеся социальные общности, антропологи и социологи обнаружили, что их целостность существенным образом зависит от надежности функционирования системы социального управления. В свою очередь эта надежность достигается путем формирования определенного аппарата, с помощью которого фиксируется, хранится и передается социально значимая информация. Целостность и устойчивость социальных связей, таким образом, оказывается связанной с характером и особенностями организации того аппарата, который является основой памяти общества.
Наличие особого способа хранения опыта осознавалось давно. В частности, у Платона можно найти упоминание о некоем хранилище знаний, непознанной социальной действительности, скрытой от человека. Идея о существовании надличностного механизма хранения социально значимой информации, являющегося необходимым условием развития общества и индивида, прослеживается в работах многих современных историков, психологов и социологов. Наличие в обществе специфической системы хранения социально значимой информации отмечается и в исторических исследованиях. Французский историк М. Блок, в частности, выделил роль коллективной памяти, которая, по его мнению, определила в значительной мере характер воззрений людей эпохи Средневековья. В формировании такого взгляда сыграл традиционный для историков подход к памятникам прошлых эпох, особенно письменным. Любой фрагмент текста, а тем более цельное произведение, историк рассматривает, прежде всего, как отражение коллективного человеческого опыта и знаний. В результате складывается специфический взгляд на письменные исторические источники, в особенности на различные хроники, летописи, жизнеописания. Историк средневековья часто видит в них продукт деятельности некоего коллективного субъекта и относится к ним именно с таких позиций.
Развертывание исследований социальной обусловленности познания привело к появлению в философской литературе целого ряда понятий, в которых фиксируется наличие в обществе сформировавшейся в процессе социального развития системы хранения, переработки и выдачи информации, обеспечивающей процесс расширенного воспроизводства материальной и духовной культуры и всего общества в целом. Кроме термина «коллективная память» в таком же или близком значении в исторической науке используется понятие «социальная память», а также термины «историческая память», «социально-историческая память», «память мира», «внешняя память», «надындивидуальная система информации», «внегенетическая система социального наследования» и другие. Помимо отмеченного общего смысла в них отмечается та или иная особенность каждой из систем хранения информации и проявляются какие-то черты применяемой их авторами методологии (Колеватов, 1984: 40).
Э. В. Соколов, рассматривая проблему «исторической памяти», отмечает, что требуются специальные усилия для того, чтобы результаты познавательной деятельности и обмена информацией были систематизированы, включены в общую систему знаний и стали доступны для последующего использования. Подчеркивается целенаправленность формирования исторической памяти. Сама система хранения и передачи информации в обществе выступает как продукт специализированной деятельности человека (Соколов, 1972). В еще более узком смысле использует это понятие В. Б. Устьянцев, обозначая данным термином совокупность исторических источников, преимущественно письменных.
Говоря о «внешней памяти» А. А. Малиновский видит причину ее возникновения в необходимости для общества преемственности знания с сохранением информации из поколения в поколение. На первых этапах развития общества она была заключена в орудиях труда, в предметном мире. В дальнейшем начали развиваться знаковые системы, передававшие то или иное знание в виде отдельных символов, а затем и в виде прямых записей, цифр и других все более распространявшихся форм фиксации знания (Малиновский, 1977).
Таким образом, несмотря на различия в терминах, все приведенные явления описываются, прежде всего, как хранилища традиций, опыта, научных знаний, искусства. Например, указываются материальные средства и социальные институты, обеспечивающие сохранение текстов разного рода, картин, фильмов и тому подобного, а также способы их тиражирования, сохранения и распространения (музеи, библиотеки, средства массовых коммуникаций и т. д.).
2. Коллективная память в работах Э. Дюркгейма и М. Хальбвакса
В статье «Представления индивидуальные и представления коллективные» Э. Дюркгейм освещает проблему коллективной памяти с положения о том, что «психическая жизнь есть непрерывное течение представлений, что никогда невозможно сказать, где кончается одно и начинается другое» (Дюркгейм, 1995: 219). По его мнению, память не является фактом чисто физическим, так как представления способны сохраняться во времени. Разрыва между состояниями человека в прошлом и в настоящем нет, они воздействуют друг на друга, и результат этого взаимного воздействия может в определенных условиях достаточно усиливать интенсивность прошлых состояний так, чтобы они вновь осознавались. «При этом представления всегда воздействуют на психику человека, - пишет Дюркгейм, - однако связь между прошлым и настоящим может устанавливаться и с помощью чисто интеллектуальных посредников» (там же: 224).
Социальные факты у Дюркгейма также являются внешними по отношению к индивидуальным сознаниям, а субстратом их являются «ассоциированные индивиды». «Представления, образующие ткань этой жизни, выделяются из отношений, которые устанавливаются между определенным образом соединенными индивидами, или между вторичными группами, располагающимися между индивидом и обществом в целом» (там же: 233). То есть коллективные представления, порожденные действиями и противодействиями между элементарными сознаниями, из которых состоит общество, прямо не вытекают из последних. Сумма индивидуальных памятей индивидов не есть коллективная память, структура последней организована существенно сложнее. При этом «личные чувства становятся социальными, комбинируясь под воздействием сил, которые развивает ассоциация; вследствие этих комбинаций и проистекающих из них взаимообусловленных изменений, эти чувства становятся другими явлениями» (там же: 234).
Коллективная жизнь, целиком располагаясь в коллективном субстрате, посредством которого она связана с остальной частью мира, тем не менее, не растворяется в этом субстрате, отмечает Э. Дюркгейм. Коллективные представления, по его мнению, также как индивидуальные способны притягиваться, отталкиваться, образовывать между собой различного рода связи, которые определяются их естественными близкими свойствами. Так эволюционирует религия, мифы, легенды.
Таким образом, основная задача, которую ставил Дюркгейм, подчеркивая принципиально иную основу коллективных представлений в отличие от представлений индивидуальных, заключалась в том, чтобы выделить коллективные представления, в которых, по его мнению, как бы сконцентрировалась своеобразная умственная жизнь, бесконечно более богатая и более сложная, чем умственная жизнь индивида. Индивид вынужден использовать коллективные представления, совокупность же таких коллективных представлений - «коллективное сознание» - обусловливая содержание сознания индивида, выступает как основа его мышления и действия. Известно мнение Дюркгейма о том, что категории коллективной памяти имеют религиозное происхождение.
Объектом рефлексии феномен коллективной памяти становится сравнительно поздно, в период общества модерна. Сохранение прошлого, в традиционном обществе задаваемое самим его укладом, в обществе модерна становится специальной задачей, тесно связанной с тем, что ценность прошлого, культуры, традиции резко повышается по мере того, как они становятся источником легитимации тех или иных социальных групп.
Понятие коллективной памяти упрочилось во французской социологической школе благодаря работам М. Хальбвакса, который сделал коллективную память объектом социологического исследования. Согласно его взглядам, память как доступ к реальностям прошлого весьма ненадежна, но, тем не менее, она образует основу социального порядка (Halbwachs, 1950). Автор показывает, что ни одно общество не могло бы жить без коллективного фонда воспоминаний, ибо религия и семья, профессиональные организации и социальные институты удерживаются вместе ничем иным, как коллективными воспоминаниями. Будучи последователем Э. Дюркгейма, Хальбвакс утверждал, что задача социолога - вносить вклад в общественную солидарность посредством изучения источников социального сцепления, социальной связи.
Характеризуя коллективную память в качестве социального феномена, Хальбвакс подчеркивает ее избирательность. Личные воспоминания склонны к исчезновению в случае, если они не повторяются, не вызываются в памяти вновь и вновь. Вероятность их повторения зависит от того, наделяли ли их коллективной функцией «социальной рамки памяти». Так, автобиографические воспоминания могут выжить лишь в случае, если они отвечают каким-то институциональным нуждам. Но, по Хальбваксу, те воспоминания, которые стали достоянием коллективного сознания, вовсе не могут считаться ненадежными в том, как они изображают события прошлого. Скорее дело заключается в том, что некоторые события, переработанные коллективной памятью, приобретают своего рода вечное значение, и в силу этого вспоминаются чаще и дольше по сравнению с огромными массами происшествий, которые обречены на забвение, а отчасти и за счет этого забвения. Иначе говоря, Хальбвакс допускал, что коллективное запоминание и забвение зависят друг от друга и взаимно друг друга конституируют.
В основании размышлений Хальбвакса лежала не проблема фактичности прошлого, которую он, будучи представителем французской социологической школы, под вопрос не ставил, но скорее его интерес к привилегированному статусу особых моментов прошлого. Он показывает, что ключевые моменты христианского календаря связаны с памятью об исторической фигуре Иисуса Христа. В связи с этим он задается вопросом, как объяснить, что христианская религия, полностью ориентированная на прошлое, как и все религии, может, тем не менее, существовать в качестве института постоянного, заявляя о своем вневременном статусе, и что христианские истины могут быть и историческими, и вечными. Социолог предполагает, что ощущение вечности, связанное с памятью о Христе, возникает в силу различий в рамках осознания времени, в силу изоляции религиозной памяти от общего потока постоянно меняющегося человеческого опыта.
Второй важный пункт теории Хальбвакса состоит в интерпретации функционирования механизма коллективной памяти: превращая то или иное событие в источник нравственной рефлексии, в средоточие нравственных уроков будущим поколениям, отрицая саму возможность сопоставления данного события с любыми другими историческими происшествиями, коллективная память наделяет это событие статусом позитивности и сакральности. Феномен коллективной памяти сближает между собой профессиональное и массовое историческое сознание, поскольку, как бы ни были аполитично настроены профессиональные историки, их первоначальный интерес к истории возникает в результате контакта с коллективными воспоминаниями. Посредством коллективной памяти возникает эмоциональная вовлеченность в прошлое. Так, культивируемое почти в каждом социуме широкое знакомство детей с такими компонентами коллективной памяти как памятные места, религиозные ритуалы, фольклор, семейное древо, призвано будить в них чувство исторической укорененности, уважения к прошлому. Из эмпатии происходит любопытство, стремление узнать о тех или иных исторических фигурах, событиях, и это любопытство становится основанием индивидуального интереса к истории. Усилению интереса к коллективной памяти может способствовать сосуществование в социуме взаимоисключающих картин недавнего прошлого, рисуемых этническими или социальными группами. Реальность прошлого, проявляющаяся в индивидуальной памяти, не просто копия доступных описаний. Она часто возникает внутри более или менее широких общностей и групп, объединенных памятью о тех или иных событиях.
Особую проблему составляет тот компонент коллективной памяти, который связан с осмыслением недавнего прошлого. В этой связи Хальбваксом описан синдром «запаздывающей памяти», состоящий в том, что крупные исторические события, сильно травмирующие историческое сознание, подвергаются относительному забвению или вытеснению в течение 15 лет. Именно потому, что они связаны с ближайшим прошлым, память о котором имеет своих непосредственных носителей, процессы пересмотра и переинтерпретации истории не сводятся к более или менее объективной переоценке документальных свидетельств или смене теоретической парадигмы. Они вовлекают индивида в процесс пересмотра своей прошлой жизни, в переопределении своей идентичности, а иногда (как в случае молодого поколения) и в процесс конфронтации с родительским наследием.
3. Психоанализ и понятие коллективной памяти
Первым исследования коллективной памяти в рамках данного направления начал К. Г. Юнг. В своей работе «Психология бессознательного» он выделяет «личное» и «сверхличное» или «коллективное» бессознательное: «в каждом отдельном человеке есть великие «изначальные» образы, <…>, то есть унаследованные возможности человеческого представления в том его виде, каким оно было издавна» (Юнг, 1994: 105). Это более глубокие слои бессознательного, где содержатся общечеловеческие, изначальные образы - архетипы. Он отмечал, что коллективное бессознательное отделено от личного и является всеобщим. По происхождению архетипы более древние и составляют так называемый «первичный рисунок» для каждого человека, повторяющийся опыт человечества. Коллективное бессознательное как «оставляемый опытом осадок и вместе с тем как некоторое его, опыта, априори, есть образ мира, который сформировался уже в незапамятные времена» (там же: 141). Хранение архетипов в коллективном бессознательном осуществляется в форме «наследственных категорий».
Юнг считал, что при слиянии личного и коллективного бессознательного происходит расширение личности, ведущее к «состоянию инфляции». В таком слиянии он видел одну из причин возникновения неврозов у своих пациентов. Однако осознание содержания коллективного бессознательного и его размежевание с личным бессознательным позволяет ассимилировать архетипические образы, переработать их и понять.
При идентификации личности с коллективной психикой архетипические образы возвышаются до «уровня системы» (там же: 231). Человек утрачивает духовную свободу и возводит себя до уровня «пророка» или «ученика пророка», постигшего истину, которая все еще не открыта. Таким образом, коллективное бессознательное действует внутри психики как энергия, имеющая символические формы выражения. Их можно понимать как набор имеющихся в бессознательном определенных признаков, или предрасположенностей, которые при известных условиях активизируются и вторгаются в сознание в виде энергетических потоков, принимающих там наглядные символические формы или выражающихся в стереотипных реакциях и способах поведения.
Смысл индивидуации состоит в выделении личности из коллективного основания собственной психики, или, иначе говоря, «во втором, духовном рождении человека», возникновении психически самостоятельного, и, таким образом, способного к саморазвитию, существа. Однако сам по себе с историей развития человека возрастающий уровень сознательности отнюдь не гарантирует, что «психическую жизнь человека нельзя свести к коллективным ее формам» (там же: 14). Сознание может оставаться сознанием, но при этом быть одержимым образами коллективного бессознательного, отдавая себе отчет в чем угодно, только не в своей одержимости. Именно это и происходит, по Юнгу, в современном обществе с его массовой культурой и подавлением личности в тоталитарных государствах. Даже демократия, с ее стремлением к поощрению индивидуальных свобод не защищает человека от одержимости коллективным началом, ведь она изначально ориентирована на большинство. Трагизм современной ситуации состоит в том, что упоенное прогрессом и благополучием, нынешнее общество не замечает и не желает замечать «смерти личности и собственного окончательного вырождения» (там же: 15).
Современные последователи психоанализа также обращаются к исследованиям коллективной памяти о конкретных политических событиях, к процессам по оформлению этих проявлений памяти. Мы рассмотрим, как, в частности, понимают эти процессы М. Полляк, А. Руссо и М. К. Лавабр.
3.1. Концепция М. Полляка
Наша память структурируется и включается в память той общности, к которой мы принадлежим и ее атрибутам. К их числу относятся памятники - архитектурное наследие, стиль которого воздействует на нас на протяжении всей нашей жизни; пейзажи; даты исторических событий и исторические личности, о которых мы постоянно слышим; традиции и обычаи; различные правила общения; фольклор; музыка и даже гастрономические привычки.
М. Полляк считает, что можно понимать эти различные атрибуты-ориентиры как определенные эмпирические индикаторы коллективной памяти каждой группы, памяти «структурированной и иерархизированной, памяти, которая, определяя то, что объединяет в группу и одновременно отличает ее от других групп, порождает и закрепляет чувство причастности, принадлежности к группе, дает почувствовать наличие социокультурных границ» (Полляк, 1995: 191). Коллективная память играет позитивную роль в усилении социальной сплоченности не путем принуждения, а через эмоциональную аффективную групповую связь.
В своей работе «Память, забвенье, молчанье» Полляк анализирует коллективную память в свете политических событий в разных странах мира в XX веке. Он выделяет ряд этапов в развитии и изменении коллективной памяти. В частности, он отмечает, что «извержение информации, дотоле сдерживающейся под спудом памяти, …молчание … невинных жертв, лишенных социальных опор, насильственно мобилизованные воспоминания» - все это «свидетельства замечательной живучести в течение десятилетий, если не веков, индивидуальной и групповой памяти. Противостоя наиболее узаконенной, институционализированной национальной памяти, эти воспоминания скрываются в недрах семьи, в ассоциациях, ячейках общения, аффективного и/или политического» (там же: 203).
Границы между зонами молчания, забвения и бессознательного отталкивания образов памяти неопределенны, размыты и к тому же постоянно смещаются. Запрещенные, невыраженные и постыдные воспоминания передаются по неформальным групповым каналам общения, так как общество в целом их не замечает. При этом воспоминания претерпевают изменения в зависимости от ожидаемой реакции окружающих, материальных условий передачи информации (письменно, официально, закрыто) и характера отношений, установившихся между поколениями.
Различные виды образов памяти передаются и выстраиваются чаще всего независимо и даже в противоречии друг другу, но есть «точки соприкосновения, стечения обстоятельств, позволяющих общественности сопоставить эти сферы» (там же: 204). Границы между высказываемым и не высказываемым, признаваемым и не признаваемым и обозначает коллективная память. В этой памяти обобщен образ «мажоритарного общества, господство желает править и владеть» (там же: 204). Полляк отмечает, что различить условия, благоприятствующие и препятствующие проявлениям маргинализированной памяти, - значит вместе с тем определить, какую именно окраску придает настоящее прошлому. В зависимости от обстоятельств, при появлении тех или иных воспоминаний акцент смещается. Особенно часто «воспоминания о войнах и других великих потрясениях соотносятся непосредственно с настоящим, искажая прошлое при его интерпретации» (там же: 205). Между пережитым и сообщенным, пережитым и переданным существует постоянное взаимодействие, причем это применимо ко всем формам памяти - индивидуальной и коллективной, семейной, национальной, свойственной малым группам.
Оформление памяти подчинено требованиям обоснованности и вероятности. Если эту работу никто не сделает, переход от индивидуальной памяти к коллективной, по мнению Полляка, невозможен. Коллективная память не простая сумма индивидуальных воспоминаний, это результат особого рода работы, цель которой - помочь группе обрести свое «собственное историческое сознание, выходящее за рамки сознания каждого отдельного индивида» (там же: 205). Память как коллективное созидание событий и интерпретации прошлого, о сохранении которого идет речь, соединяется с более или менее осознанным стремлением определить и усилить чувство причастности, обозначить социальные границы между столь различными общностями - партиями, профсоюзами, церквями, селениями, областями, кланами и так далее. Отнесенность к прошлому служит «установлению связей между группами, институтами, из которых общество и состоит» (там же: 206).
Полляк выделил две основные функции «общей памяти» - это установление тесных внутренних взаимоотношений и защита границ того, что общего есть у различных групп. Таким образом, можно говорить об «обрамлении памяти» (там же: 206). Различные виды коллективной памяти благодаря особой деятельности - окантовке становятся связующим началом, придающим долговременность и прочность социальным тканям и институциональным структурам общества. У социальных меньшинств защита связанности и отказ от интеграции, воспринимаемые как потеря специфичности, часто подкрепляется культом традиции, генеалогией, книгами воспоминаний и предметами, ритуально передаваемыми из поколения в поколение. Их память «может не пережить их исчезновения, принимая форму мифа, который, не будучи в состоянии укорениться в политической реальности момента, сохраняется в культуре, литературе и религии» (там же: 209).
Полляк отмечает, что никакая работа памяти не протекает автономно, независимо. При обрамлении используется материал истории, который может по-разному истолковываться и связываться множеством ассоциативных связей, нацеленных не только на сохранение, но и на изменение границ воспоминаемого. То, что воссоздается в памяти, - это и есть смысл группового и индивидуального самосознания.
Полляк ставит вопрос о том, как долго может сохраняться память. Ответ на него он дает неоднозначный. Помимо различных, но единых в своей основе форм памяти, существующих в обществе, присутствуют столь же многочисленные конкурирующие формы коллективной памяти. Включаясь в господствующую национальную память, они приспосабливаются к существованию в обществе в качестве подспудной памяти и их трудно обнаружить вне моментов кризиса. «Если анализ самой деятельности по обретению, кадрированию памяти, агентов этой деятельности и ее материальных следов - это ключ к изучению с высоты птичьего полета того, как строятся, разрушаются и воссоздаются разные виды коллективной памяти, то обратный ход - тот, который посредством изустной истории, основанной на проявлениях индивидуальной памяти, позволяет обозначить границы этой кадрирующей, обрамляющей деятельности и вместе с тем - границы психологической деятельности индивида, стремящегося преодолеть болезненные разрывы, напряжения и противоречия между официальным имиджем прошлого и своими собственными личными воспоминаниями» (там же: 211).
Если говорить о коллективной памяти на уровне отдельного индивида, то «сконцентрированная индивидом история общества поддается множеству способов представления в зависимости от контекста, в котором рассказ находится» (там же: 213). При описании долгих периодов жизни, когда один и тот же человек много раз обращается к ограниченному числу событий, это явление фиксируется даже в интонации. В каждом жизнеописании есть твердое ядро, путеводная нить, лейтмотив. Пересказывая свою жизнь, мы пытаемся все упорядочить с помощью установления логических связей между ключевыми событиями (которые тем самым приобретают все более застывшую или стереотипизированную форму), а также восстановить непрерывность хронологического порядка. С помощью такой реконструктивной деятельности, направленной на самого себя, «человек пытается определить свое место в обществе и взаимосвязи с другими людьми» (там же: 214).
Таким образом, Полляк освещает основные особенности, характеризующие понятие социальной памяти, ее свойства, функции, опираясь на соотношение между официальной, легитимной памятью страны, народа, города и так далее и памятью неофициальной, закрытой, умалчиваемой.
3.2. Историческая память в концепции А. Руссо
А. Руссо рассматривал проблему коллективной памяти в контексте истории Франции. Национальная память французов о событиях Второй мировой войны, по его мнению, прошла ряд этапов в своем развитии:
1. чистка (ее цели и дилеммы);
2. амнистия, амнезия, вытеснение;
3. возврат прошлого, вытесненного.
Каждый из этих этапов был определен логикой развития исторических событий времен войны и трансформацией отношения к ним со стороны граждан, участников событий.
В частности, чистки выполняли ряд задач:
- «Обеспечение безопасности». Необходимо было «избежать возвращения к власти коллаборационистов, часть которых с оружием в руках боролась против сторонников Сопротивления и союзных армий, и, самое главное, удостовериться в надежности новых руководителей управленческих государственных органов. Тогда эту функцию рассматривали как первоочередную, так как переход к демократии проходил в период яростных боев за освобождение страны» (Руссо, 1995: 221).
- «Общественный регулятор» и «отдушина». Удалось направить в одно русло чувство накопившейся ненависти и преодолеть трудности, присущие любому переходному периоду.
- Политическое узаконивание власти. Чем чаще новая власть объявляла о своей решительности придать суду виновных, тем большую законность обретала она в глазах части общества. «Вначале важно было не обмануть ожидания французов, требовавших, в своем большинстве, решительной чистки. Позднее, наоборот, успокоить тех же французов, уже озабоченных слишком затянувшейся чисткой» (там же: 222).
- Восстановление правосудия и возмещение ущерба. А. Руссо отмечает, что эта функция была выполнена крайне неэффективно. Для новой власти речь шла не только о восстановлении доверия, но и о защите общественного порядка, поскольку необходимо было избежать проявления личной мести и не допустить накопления озлобленности у населения. Кроме того, по всем преступлениям, совершенным в рамках политики геноцида по отношению к евреям, виновные понесли тогда обычные наказания, что объясняет тот факт, что спустя полвека после окончания войны продолжались процессы в суде над бывшими вишистами.
- Самоутверждение личности в новых политических условиях (моральное и политическое удовлетворение). Чистке желали придать созидательный момент, вписывающийся в политику движения Сопротивления. Однако чистка, что означает отмывание страны, устранение «загрязнений», явилась первым этапом на пути к коллективной амнезии, поскольку в любом правовом государстве преступник, отбыв наказание, имеет право на обретение своего места в обществе и на забвение совершенного им преступления.
Всего по ходу проведения чистки Руссо выделил 4 дилеммы, которые являются показательными. Главная - как соблюсти право и закон в условиях гражданской войны? С того момента, когда в ответ на требования общественности было принято решение начать чистку, необходимо было определить: либо это будет месть победивших участников Сопротивления по отношению к побежденным коллаборационистам, либо будет вершиться правосудие, отвечающее республиканским традициям, с полным осознанием того, что оно далеко не совершенно и спорно. Вторая, как сбалансировать настоятельное требование чистки, с одной стороны, и необходимость прекращения этого братоубийственного процесса - с другой? «У чистки должны быть границы и во времени и в самом толковании. Именно поэтому довольно скоро прозвучало требование прекращения судебных процессов» (там же: 224).
Третья дилемма: можно ли без серьезных последствий и рискуя остаться без достойной замены, обрушиться на экономическую, административную и политическую элиту, представители которой были самыми заметными и несущими наибольшую ответственность фигурами? Совершенно ясно, что нет. Этим и объясняется отсутствие чистки в экономической сфере и относительная ее умеренность в сфере административной, вызванные необходимостью обеспечить преемственность институтов государства и стремлением предоставить наилучшие шансы для начавшегося тогда возрождения страны (там же: 225).
Четвертая - возрождение национального единства начиналось с отторжения, пусть даже оправданного, всех тех, кто имел какие-либо связи с режимом Виши и оккупантами, а это в определенной степени касалось их родственников и знакомых.
На втором этапе в общественном сознании и национальной памяти происходили три тесно взаимосвязанных процесса. Объявление амнистии остановило продолжавшийся общественный спор о масштабах коллаборационизма, о «широкой поддержке, которой он пользовался, и главным образом о самом сложном для восприятия аспекте, который сильно противоречит республиканской традиции, а именно о государственном антисемитизме и участии французского правительства в проведении операции по уничтожению евреев Европы (там же: 226). На все эти темы почти на двадцатилетний период будет наложено табу, как в официальной истории, так и в литературе, кино и даже в историографии.
Подобная коллективная амнезия стала возможна лишь потому, что две основные политические партии, «не желая понять подлинные чувства французов, предложили каждая свою трактовку периода оккупации, и трактовки эти отвечали глубокому желанию общественности не только предать забвению это прошлое, но и отвести от себя всю ответственность за содеянное» (там же: 227). Для того чтобы добиться и без труда поддерживать состояние амнезии, необходимо было добиться слияния важного политического акта (объявления амнистии) с героической интерпретацией истории, ставшей возможной благодаря реальной и бесспорной власти.
Третий этап был обусловлен тем, что в стране начал изменяться к тому времени далеко не критический взгляд на период оккупации. Разрыв с предшествующим периодом наблюдался как в политике, так и в культуре. На это имелся ряд причин:
- пробуждение еврейской национальной памяти (на скамье подсудимых оказались виновники антисемитских преступлений);
- отражение перемен в политической жизни государства (конец эпохи генерала де Голля и крах коммунистической партии);
- возрождение крайне правых антисемитских, националистических и ксенофобских партий.
Побочным следствием такой ситуации явилось «постоянное обращение к правосудию, как при обвинении в преступлениях против человечества, так и при организации многочисленных процессов по факту клеветы, которые гремят уже на протяжении десятка лет, а также процессов по пресечению распространения фашизма и фактов отрицания геноцида» (там же: 231).
Историческое наследие народов не может ограничиваться только героическими событиями их истории. Почти всем народам, и главным образом европейским, пришлось пережить и драматические события. Думается схему, предложенную Руссо, при известных оговорках и с соответствующими вариациями, можно применить к анализу коллективной памяти многих других наций.
3.3. М. К. Лавабр о коллективной памяти
В своей работе «Память и политика: о социологии коллективной памяти» М. К. Лавабр (Лавабр, 1995) анализирует опыт исторического пути различных государств, пытаясь оценить особенности коллективной памяти, ее формы, функции и трансформацию во времени. В частности, Лавабр отмечает, что память может представлять собой «миф, легенду, эмоциональное отношение к истории, воссоздавая прошлое таким, каким его видят индивидуумы и группы людей, готовые придать смысл и значение прошлому, которое они пережили» (Лавабр, 1995: 232). Иногда она выступает в виде более приукрашенной формы истории, уроков прошлого и иногда конечной целью является не знание, а соответствие тому, что стремятся создать власть имущие. А иногда память выступает и в виде живых воспоминаний тех, для кого минувшие события незабываемы и воссоздание этих событий не может быть в полной мере осуществлено официальными историками.
Соотношение между историей и памятью не везде одинаково. В этой связи становится ясно, что если память, как правило, отчуждает, то история освобождает. Лавабр отмечает, что на Востоке, где «официальная история запрещала проявления памяти, принуждала к забвению, фальсифицировала прошлое и лишала отдельных людей, семьи и социальные группы их воспоминаний, то есть их самобытности и различий, память, наконец, освободилась от оков живой истории» (там же: 234). Однако воскресшая память является, без сомнения, как и любая другая память, воссоздающая прошлое, инструментализацией прошлого и подчинена ближайшим политическим целям.
При этом Лавабр говорит о том, что различия истории и памяти становятся постепенно относительно слабыми, поскольку «память всегда приходится мерить на аршин истории, миф - на аршин реальности прошлого» (там же: 234). Обращение к прошлому является составной частью социальной принадлежности и наследие, каким бы оно ни было, должно быть принято для того, чтобы служить самосознанием индивидуумов и обществ. В основе отличия истории от памяти лежит не столько то, что отличает правду от лжи, сколько наличие в ней того, что представляет интерес прошлого. Память держится на интересе, основанном не на знании, а на идентичности. Это верно для «активных групп общества, особенно для политических движений и партий, которые возникают в противостоянии друг другу и ищут в прошлом причины своих различий. Это также верно для всего общества, которое, осуществляя контроль над преподаванием истории, задает ему цели и делает выбор» (там же: 235). Существует взаимосвязь между историей, которую преподают в школе, или которую предпочитает нация, официальной памятью, которую партия предлагает своим членам и активистам, и воспоминаниями, которые хранят индивидуумы. В результате этой взаимосвязи рождается так называемая коллективная память, то есть память, «более или менее разделяемая индивидуумами, совместные представления о прошлом, которые приуменьшают разнообразие личных воспоминаний» (там же: 237).
При этом, продолжает мысль Лавабр, данная взаимосвязь не всюду проявляется одинаково. Существует так называемый «эффект социализации индивидуумов», который дает о себе знать, например, во время вступления в партию. Действенность его ограничена интенсивностью прожитого в тот или иной момент тем или иным индивидуумом, группой индивидуумов и поколением, многочисленностью групп, к которым принадлежит индивидуум, подчиненный различным представлениям прошлого и так далее.
Если историк, заботящийся о чаяниях общества, неотъемлемой частью которого он является, и осознающий ответственность за отображение настоящего и прошлого, которое он разделяет со своими современниками, не тратит время на определение отличий между историей и памятью, то появляется новый подход. Это возможно в результате того, что «приобретаются знания, показывающие наличие у памяти рационального зерна, которого нет у истории» (там же: 235). Однако ничто не дает право делать вывод о том, что живая память индивидуумов и групп соответствует официальной памяти, которую выражает официальная история. Ничто не дает право предугадывать воздействие попытки контроля прошлого над воспоминаниями и знаниями о прошлом, носителями которого являются индивиды. Расхождение между исторической памятью организации и живой памятью ее активистов показывает, что невозможно без ущерба вычленить одну из другой. Расхождение позволяет предположить, что представления живой памяти давят на «политическую инструментализацию» (там же: 240). Сталкиваясь с эмоциональной стороной отношения к заранее растолкованному прошлому и живой связи поколений, историческая память может только в лучшем случае приукрасить специфическим образом ссылки на прошлое. Лавабр подчеркивает также идею о том, что какими бы ни были разработки прошлого и содержание преподаваемой истории, они совершенно не принимаются индивидуумами, так как «разрушают их самые глубокие убеждения, их представления о мире, раз полученные и очень «медленно трансформируемые» (там же: 242).
Таким образом, Лавабр своей работой постулирует следующую мысль: социология памяти развенчивает сакраментальный характер живой памяти, подобно тому, как труды историков подвергают критике официальные мемуары. Не менее и не более аутентичная, она взаимодействует, частично обусловленная преподаванием определенно ориентированной истории, а частично являясь политическим инструментарием прошлого, живая память подчиняется соображениям в тем большей степени, чем менее она декретируется. В ней действуют прочно слитые индивидуальные и коллективные представления, шкала ценностей и образ мыслей которые придают смысл прошлому, настоящему и будущему. Автор в данном случае разделяет понятия коллективной и исторической памяти, подчеркивая, что коллективная память - продукт взаимодействия официальной исторической и индивидуальной человеческой памяти.
Итак, психоаналитическая школа подчеркивает в коллективной памяти следующие черты:
1. изменчивость (может меняться с течением времени);
2. сложность (зависит от большого количества различных аспектов ситуации);
3. субъективность (может носить разные оттенки и эмоциональное отношение к прошлому).
4. Современная социология о коллективной памяти
Согласно «Современному философскому словарю», коллективной памятью называется «совокупность действий, предпринимаемых коллективом или социумом, по символической реконструкции прошлого в настоящем» (Турбина, 1998: 634). Субъекты сохранения коллективной памяти руководствуются в качестве идеала своей деятельности неким конструктом, который деятельно отстаивают, особенно в ситуации, когда в социуме фигурирует и конкурирует несколько версий прошлого. Коллективная память тесно связана с формированием коллективной и индивидуальной идентичности, проблемами легитимности политических режимов, идеологического манипулирования, с моральными аспектами прошлого.
Согласно А. Левинсону, «выходящая на общественную арену социальная группа или сила, как правило, приносит с собой собственную трактовку общего прошлого» (цит. по: Турбина, 1998: 635). При этом выдвижение на первый план какого-либо политического события тесно связано с забвением других событий, относящихся к обществу в целом или к данной группе. Память данного коллектива, группы, силы, возобладает в общем социальном дискурсе в случае, если данный коллектив будет доминировать. Эта закономерность особенно заметна в периоды социальной трансформации. В частности, одной из причин драматических процессов, связанных с обретением этнической и национальной идентичности народами Восточной Европы, созданием национальной идентичности в объединенной Германии, явилось именно предпочтение одних вариантов коллективной памяти другим. В то же время неустранимость из социального сознания иных, чем доминирующие, версий тех или иных событий, сосуществование нескольких «образов» прошлого свидетельствуют о том, что в отношении к прошлому проявляется своего рода объяснительный плюрализм.
Существенный вклад в осмысление коллективной памяти внесен Франкфуртской школой, и, прежде всего, Т. Адорно, исследовавшим особенности метаморфоз коллективной памяти в период послевоенного переживания вины и стыда германцев за ужасы фашизма, сопровождавшееся перечеркиванием индивидуальных и коллективных воспоминаний о национал-социалистической эре и тем самым отрицанием самого существования недавнего прошлого. Адорно обнаружил факт коллективного самообмана, на который указывал (и который маскировал) призыв к переоценке прошлого.
Ю. Хабермас выделил два измерения процесса осмысления нацистского прошлого в Германии:
- коллективный процесс обсуждения, посредством которого общество стремится к более полному пониманию самого себя в контексте новейшей истории;
- необходимость противостоять и осмысливать состояние индивидуальной виновности.
5. Социальная психология о коллективной памяти
Исследования коллективной памяти как исторического феномена в 1980–1890-е годы отличает их интенсивность и многоплановость, а также тот факт, что они ведутся параллельно с нарастанием общественного интереса к памяти и традициям. Собственно самое складывание и упрочение групповой, и, прежде всего, этнической идентичности тесно связано с существованием исторической памяти, реальной или воображаемой. Для такого рода этнической памяти характерна сосредоточенность не только на последовательности тех или иных событий, но и отражение совокупности чувств, откровений, ожиданий, эмоций и моделей поведения.
Несмотря на многолетнюю историю изучения коллективной памяти, до сих пор недостаточно определенным выглядит представление о ее объекте и предмете. Если обратиться к истокам изучения коллективной памяти, а именно, к работам М. Хальбвакса (Halbwachs, 1950), то нужно отметить, что объектом коллективной памяти им изначально принимались такие коллективы, как семьи. Именно передача воспоминаний от старшего поколения семьи младшему, то есть от дедов к внукам признавалась базовым каналом трансляции представлений о событиях прошлого. К концу XX века арсенал объектов в практике исследований коллективной памяти значительно расширился и включает теперь как ограниченные по численности сообщества (например, участники или очевидцы событий, если речь идет о недавней истории), так и большие социальные группы, поколенческие когорты и целые нации (Paez, Basabe, Gonzalez, 1997). Такая расширительная трактовка объекта создает не только определенные разночтения в понимании самого феномена коллективной памяти, но и порождает трудности при сопоставлении результатов исследований. Однако на нынешнем этапе изучения коллективной памяти более точная квалификация объекта едва ли возможна.
Современные представления о предмете коллективной памяти на первый взгляд выглядят однозначными - это исторические события и их персонажи, однако практика исследований показывает, что коллективные воспоминания, в действительности, кристаллизуются на событиях и личностях, обладающих большой ценностной нагрузкой и, соответственно, сопряженных с эмоциональными переживаниями. Содержательно наполненные коллективные воспоминания обычно касаются героических или, наоборот, нравственно травмирующих политических событий истории, ее позитивно или негативно окрашенных эпизодов. Кроме того, в исследованиях последнего десятилетия была убедительно доказана связь между характером коллективных воспоминаний и групповой идентичностью, а также актуальными потребностями исследуемых групп. Таким образом, предметом коллективной памяти можно считать не любые исторические события и персонажи, а те, которые в значительной степени актуальны для современной политической жизни сообществ.
Одним из важнейших признаков, дающих основания трактовать коллективную память как социально конструируемый феномен является ее интерактивная природа. Мысль об интерсубъектной природе коллективных воспоминаний впервые была высказана Хальбваксом (Halbwachs, 1950), проработана Бартлеттом (Bartlett, 1950), а затем, уже в конце XX века доказана эмпирически. Многочисленные исследования коллективных воспоминаний о событиях недавнего прошлого показывают, что это всегда воспоминания в связи с другими людьми. Так, вспоминая о первых годах обучения в университете, студенты, прежде всего, называют эпизоды, связанные с общением (Paez, Basabe, Gonzalez, 1997).
Есть эмпирические данные о том, что более стойкая и точная память регистрируется в тех случаях, когда вспоминаемое событие непосредственно после того, как оно произошло, обсуждалось с кем-либо (там же: 153). Авторы отмечают, что наиболее определенно эта закономерность проявляется в отношении эмоционально ярких событий. Результаты их исследований показывают, что группы, разделяющие свои прошлые коллективные травмы, обладают более эмоциональной и сложной памятью об этих событиях. Авторы утверждают, что социальная функция разделения прошлых травмирующих событий заключается в построении более четкого образа коллективных событий (там же: 155).
5.1. Конструкционистский подход к коллективной памяти
Связь коллективной памяти с эмоционально-ценностными аспектами жизни группы неизбежно ведет к изменчивости содержания и эмоциональной окраски коллективных воспоминаний, придает им культурно-историческую обусловленность. Подобные особенности феномена коллективной памяти дают основания рассмотреть его как разновидность коллективной ментальной реинтерпретации с позиций конструкционистского подхода (Gergen, 1985), который позволит применить к коллективной памяти более адекватные объяснения, нежели с позиций социального когнитивизма и наметить новые перспективы его изучения. Положение о том, что социальная реальность конструируется в процессе взаимодействия людей, является одним из основополагающих в социальном конструкционизме. Так, К. Герген называет человеческое взаимодействие источником конструирования знания (Gergen, 1985: 268). Обобщая принципы этого подхода П. Н. Шихирев (Шихирев, 1999: 361), подчеркивает, что основным объектом исследования знания являются «сообщества собеседников, участников разговора». Факты конструирования коллективных воспоминаний в процессе общения, с одной стороны, подтверждаются эмпирическими результатами, а, с другой - открывают большие возможности для качественного исследования дискурса как процесса, в ходе которого конструируются воспоминания (см., напр.: Billig, 1990).
Обсуждая конструкционистскую природу коллективной памяти, нельзя не обратить внимания на ее контекстуальный характер. Влияние социального контекста проявляется, прежде всего, в существовании множества точек зрения на один и тот же предмет воспоминаний. Подобные «разночтения» обусловлены социальными и социально-психологическими особенностями групп, внешними и внутренними условиями их жизнедеятельности. Влияние социального контекста было доказано многими эмпирическими исследованиями, в частности британскими авторами при изучении воспоминаний об отставке Маргарет Тэтчер (Gaskell, Wright, 1997). Так, в этом исследовании с участием более 6000 респондентов был использован особый вид экспресс-интервью стандартизированного типа - «omnibus» интервью, в котором выявлялось так называемое «качество воспоминаний» (MQ). Для этого испытуемых просили оценить четкость их воспоминаний, то, насколько, по их мнению, важной была отставка и рассказать об их эмоциональной реакции на это событие. Было обнаружено, что существуют значимые различия между группами в качестве воспоминаний об отставке Тэтчер, наблюдаемые среди разных социальных классов Великобритании. У респондентов из высших социальных классов, где больше сторонников консерваторов, наблюдались более высокие рейтинги памяти, поскольку для них уход Тэтчер был выдающимся событием, расколовшим консервативную партию на тех, кто считал, что она находилась у власти слишком долго, и на тех, кто все еще был ей предан.
Влияние социального контекста на содержание памяти было нами показано в исследовании фигуры идеального политического деятеля прошлого (Емельянова, 2006: 280–285). Анализ факторной структуры образа Петра I, возглавлявшего рейтинг идеальных лидеров, показал наличие значимых различий в содержании представлений в возрастных группах и группах с различными политическими предпочтениями. Подобная множественность образов коллективной памяти свидетельствует о сконструированности воспоминаний, их непосредственной зависимости от социально-культурного контекста жизни сообществ.
Результаты социологического исследования, посвященного массовым представлениям об исторических личностях (Левинсон, 1996), дают интересный материал о структуре представлений, охватывающих всемирную историю. Исследование проводилось ВЦИОМ в два этапа: в 1989 и в 1994 гг. Респонденты должны были назвать «десять самых выдающихся людей всех времен и народов». Аналитик обращает внимание на то, что число названных исторических деятелей XX века составляют величину, превышающую объем упоминаний исторических фигур за все остальные периоды истории человечества.
Таким образом, эмпирически выявленная структура массовой памяти определяется тем набором личностей, которые оказали непосредственное влияние на судьбы ныне живущих людей. При этом история России представлена в массовой памяти как история власти, то есть в качестве самых выдающихся людей фигурируют государи, диктаторы и военачальники (там же: 260–261). Однако даже в пределах пятилетнего промежутка времени между двумя исследовательскими срезами от 1989 до 1994 обнаружились различия в частоте упоминания исторических фигур недавнего прошлого. Массовое историческое сознание стало значительно менее интегрированным вокруг моносимвола - Ленина, оно стало более дифференцированным «по интересам», кроме того, четко обозначилась тенденция к актуализации «символов империи и авторитарного управления ей» (там же: 267). Подобная динамика массовой памяти даже на небольшом, но насыщенном политическими событиями отрезке времени, свидетельствует об особой подвижности этого феномена и «чувствительности» памяти к социальному контексту.
Между тем, именно конструкционистская парадигма в социальной психологии, по словам П. Н. Шихирева, побуждает рассматривать знание «не как процесс накопления, а как процесс бесконечного исторического пересмотра, реинтерпретации» (Шихирев, 1999: 361). Ведь любое знание, как утверждает автор движения социального конструкционизма Герген, является продуктом исторически сложившихся взаимоотношений между людьми (Gergen, 1985). Применение этого подхода к историческому знанию порождает новые методологические идеи, технологии исследования коллективной памяти и подсказывает убедительные интерпретации результатов.
Предпринятое нами изучение воспоминаний о Великой Отечественной войне (Емельянова, 2002) имело целью выявление ее репрезентации в различных культурных и возрастных группах (294 респондента). Для обнаружения специфики процессов конструирования социальных представлений в стабильных и кризисных условиях было предпринято исследование кросскультурных различий в социальных представлениях о начальном периоде ВОВ. Эта часть исследования проводилась в России и во Франции на группах людей старшего возраста, бывших непосредственными участниками или очевидцами войны. Репрезентации французов старшего возраста (российских эмигрантов первой волны) и российских ветеранов обнаруживают существенные различия. Суть этих различий состоит, прежде всего, в расхождении трактовок значения советского патриотизма и роли Сталина в победе.
У российских респондентов построение положительного образа прошлого и образа «своей» группы в нем выражалось процессами «заякорения» социального представления о войне на социально позитивных моментах. Это проявлялось в акцентировании объективных, а не субъективных причин неудач первых месяцев войны, подчеркивании позитивных моментов довоенной жизни и военной стратегии Сталина. Мы связываем эти особенности воспоминаний с защитной функцией, которую выполняет коллективная память благодаря действию механизма коллективного символического коупинга.
Французские респонденты российского происхождения, напротив, акцентировали экономические трудности довоенной жизни в СССР, негативную роль Сталина в войне, нелояльность населения сталинскому режиму. Такие противоположные по смыслу версии одних и тех же исторических событий у людей одного и того же возраста и этнического происхождения могут объясняться только различным культурно-историческим контекстом их жизни и сопутствующими ему влияниями институциональной исторической памяти.
Обнаруженная в современных исследованиях связь коллективных воспоминаний с идентичностью групп (предсказанная еще Хальбваксом), объясняет их зависимость от контекста, а также определяет то соответствие, которое существует между характером воспоминаний и актуальными потребностями групп. Конструирование воспоминаний как отвечающих эмоциональному настрою и наличной мотивации сообщества, в частности, отчетливо наблюдается в изменениях содержания и эмоциональной окраски памяти о времени фашистской оккупации во Франции. Анализируя различные состояния коллективной памяти французов, А. Руссо (Руссо, 1995) называет этот период «постыдной страницей» в истории Франции и ставит вопрос о проблеме «управления историческим прошлым», механизмах и закономерностях подобного «управления» со стороны общественного сознания. Автором показано, что эволюция воспоминаний обнаруживает еще один важнейший аспект коллективной памяти - ее ценностную природу. Такие этически «нагруженные» ценности не просто сопровождают воспоминания, именно они радикально меняют их смысл и содержание.
Идея ценностной природы знания, воспринятая конструкционистами из социологии знания и этнометодологии, полностью применима к результатам исследований коллективной памяти. Исследование социальных представлений о различных периодах истории СССР (Емельянова, 2006: 272–276) проводилось в различных группах респондентов (рабочие, интеллигенция, неработающие пенсионеры, безработные и студенты). При сравнении оценок респондентами основных периодов истории СССР обнаружился период, позитивно оцениваемый всеми опрошенным группами, включая студентов, - время правления Л. И. Брежнева. Все группы респондентов в своих представлениях переносят на этот период свои фрустрированные на момент исследования переживания, «нагруженные» соответствующими ценностями.
Для респондентов-рабочих - это такие ценности, как «социальные гарантии», «стабильность», «спокойствие». Для представителей интеллигенции - «безмятежность», «романтика», «стабильность». В группе неработающих пенсионеров позитивные воспоминания об этом периоде советской истории сопряжены с «бесплатным лечением», «молодостью», «достатком» и «защищенностью». В группе безработных актуализировались в основном ценности экономического плана: «стабильность», «достаток» и др. Студенты не пережили это время непосредственно, но, вероятно, в несколько идеализированном виде восприняли его образ от старшего поколения. Их отраженные воспоминания конструируются в связи с такими ценностями, как «стремление к образованию», «дружба», «спокойная жизнь», «развитие науки», «подъем», «гарантированная работа». Представление о, так сказать, «золотом веке» советской истории, связываемом респондентами с ее брежневским периодом, объединяет людей разного возраста и рода занятий, но имеет в каждой группе смысловые нюансы, которые определяются заявляемыми ценностями. Воспоминания в данном случае играют роль ментального «буфера», смягчающего неудовлетворенность настоящим положением дел, и в символическом плане компенсирующим соответствующий дефицит.
Эмоциональная составляющая коллективной памяти исследовалась многими авторами, которые подчеркивали роль эмоций в распространении и запечатлении информации (Rimé, Christophe, 1997), в поддержании позитивной идентичности группы при конструировании воспоминаний (Емельянова, 2002), в осуществлении коллективного коупинга (Paez, Basabe, Gonzalez, 1997). Так, в исследовании, касавшемся коллективных воспоминаний о похищении бывшего премьер-министра Бельгии (Rimé, Christophe, 1997), авторы фокусируют внимание на важном социально-психологическом процессе, состоящем в передаче частного эмоционального опыта другим. Он, по мысли авторов, основан на принципе, согласно которому любой эмоциональный опыт непременно социально разделяется. Этот процесс они называют социальным разделением эмоций. Социальное разделение эмоции - это процесс, происходящий на протяжении многих часов, дней и, возможно, недель и месяцев, последующих за эмоциональным эпизодом (там же: 133). Психологический механизм этого процесса родственен тому, что участвует в процессе серийного воспроизводства, открытого Бартлеттом (Bartlett, 1950).
В обзоре, проведенном Риме с соавторами, где анализировались 1384 различные жизненные эпизода, наблюдаемая доля случаев, в которых участники говорили с другими людьми о прошлых эмоционально окрашенных событиях, составляла от 90% до 96,3%. Эта доля не менялась ни с возрастом или полом испытуемых, ни в зависимости от типа конкретной эмоции (будь то страх, гнев, радость, досада или стыд). Более того, особенности культуры (в пределах различных западноевропейских стран) также не влияли на результат.
Конструкционистский подход позволяет взглянуть на эмоционально-ценностную «предвзятость» памяти не с точки зрения артефактов, ошибок и «необъяснимой» коллективной амнезии, а с точки зрения культурно-исторической логики момента и связанного с ней представления об «этике памяти». Уместно привести слова французского историка, еще раз вернувшись к памяти французов о времени фашистской оккупации Франции: «французское общество в целом, от добровольного акта амнистии до коллективной амнезии, сокрыло черные страницы режима Виши. История, освобожденная от гнета памяти, то есть от легенды, искусно поддерживаемой политическими властями, являющимися соучастниками идеализированной истории движения Сопротивления в том виде, в коем ее предложили и организовали голлисты и коммунисты, подошла к рубежу, за которым ее больше не считают священной, за которым ее начинают критиковать во имя «этики памяти», отвергающей забвение» (Лавабр, 1995: 234). Сравнительные исследования «легенд памяти» в разные исторические периоды могли бы многое сказать о динамике особенностей нравственного идеала в истории отдельных наций и всего человечества.
Подход к коллективной памяти с позиций конструкционизма открывает дополнительные возможности анализа не только интерпретаций истории политических событий и их эмоционально-ценностной основы, он позволяет по-новому взглянуть на те процессы, эффекты и структурные особенности памяти, которые были обнаружены исследователями. Одним из процессов коллективной памяти являются систематические ознаменования событий истории. По аналогии с индивидуальной памятью, их можно рассматривать как упорядоченные во времени воспроизведения событий в памяти, носящие ритуальный характер. Кроме уже упомянутых культурно-исторических факторов и причин, связанных с упрочением позитивной идентичности группы, ознаменования имеют, личностную основу, так как люди чувствуют желание упорядочить поток времени, структурировать и отметить свою собственную позицию в нем. Выделение отмечаемых дат, частота и масштабность празднований различных общественных событий представляет специальную исследовательскую проблему.
6. Коллективная память как фактор обыденного политического сознания
Абстрактному знанию об исторических фактах, казалось бы, противоречит хорошо известная тенденция к их персонификации . В современном российском обществе, для которого характерны высокий уровень образованности населения и мышление, опирающееся на абстрактно-теоретические категории (социализм, рыночная экономика), имена «Ленина, Сталина, Хрущева и Брежнева, Горбачева и Ельцина являются наиболее распространенными обозначениями исторических периодов и ведущих политических тенденций» (Дилигенский, 1994: 22). Однако если приглядеться, подобным образом персонифицированное общественно–политическое мышление, в сущности, оперирует не только представлениями о правителях страны как реальных, эмпирически воспринимаемых личностях, сколько их абстрактными образами, базирующимися в коллективной памяти, символизирующими те или иные обобщенные понятия и отражающими различные типы политических взглядов. В зависимости от этих взглядов субъектов сознания один и тот же политический деятель может, например, символизировать порядок и национальное величие или деспотизм и террор, социальную справедливость или подавление свободы, прогрессивные изменения в обществе или его разрушение.
Итак, относительно высокий уровень абстракции и опора на отвлеченные категории, являются одной из важнейших характеристик политического сознания человека. Другая его характеристика - громадная роль в его формировании, воспроизводстве и развитии разделяемых элементов политического знания, запечатленных в коллективной памяти различных групп общества. Во многом содержание обыденной политической психологии зависит от этих источников больше, чем от индивидуального и актуального опыта, собственно познавательной деятельности субъектов.
Конечно, на протяжении своей жизни индивид постоянно сталкивается с социально-политической действительностью, испытывает ее воздействие. Однако, его индивидуального опыта совершенно не достаточно как для формирования обобщенных, построенных на абстрактных понятиях представлений о ней, так и для «уяснения причинно-следственных связей между непосредственно воспринимаемыми и испытываемыми явлениями, с одной стороны, и обусловливающими их факторами - с другой» (Дилигенский, 1994: 24). Эти факторы значительно удалены от его непосредственного восприятия, как во времени, так и в пространстве. Во времени, - потому что многие явления настоящего обусловлены событиями исторического прошлого. В пространстве, - так как такие решающие факторы общественно-политической жизни как динамика макроэкономических процессов, отношений между большими социальными группами, деятельность органов власти и принятие политических решений находятся вне сферы непосредственного наблюдения индивидов.
Социально-политические знания состоят из информации о фактах, обобщений, оценок и объяснений, которые с большим трудом поддаются эмпирической проверке. Во-первых, потому что в своих концептуальных, оценочных и каузальных аспектах они чаще всего формируются в рамках идеологий, под влиянием тех или иных идейно-политических течений и пристрастий. И хотя идеологии могут более или менее верно отражать какие-то стороны действительности, они неизбежно «выпрямляют» ее, «так или иначе подгоняют под себя, гипертрофируя одни ее аспекты и замалчивая или отводя в тень другие» (Дилигенский, 1994: 25). Во-вторых, чем дальше отстоит объект социально-политического познания от собственного опыта субъекта и его непосредственного восприятия, тем труднее подвергнуть проверке характеризующие объект суждения, и тем чаще он вынужден обращаться к устойчивым образам коллективной памяти.
Роль образов коллективной памяти в системе социально-политических знаний людей наглядно демонстрирует устойчивость «социалистической идеи» в советском и российском обществе. Вместе с оттепелью появились бреши в железном занавесе: умножилось число советских людей, посещавших зарубежные страны и имевших возможность воочию сравнить условия жизни в СССР и на Западе. «Социалистическая идея» потеряла в большой мере свою былую эмоциональную насыщенность, перестала вызывать энтузиазм, определять общее поведение и настроение людей. И все же она продолжала жить. Даже в первые годы перестройки, когда общество уже не скрывало от себя пороки собственной системы, а в публицистике и общественной мысли появились идеи реформирования, совершенствования социализма, очищение его истинной сущности от пороков тоталитаризма (там же: 26), значительная часть населения не принимала идеологии перестройки. Коллективная память об эпохе социализма породила у большой части населения образ своего рода «золотого века» в жизни страны. Наши исследования показали, что у представителей различных групп общества (включая молодежь) как наиболее «счастливый» исторический период в жизни страны в коллективной памяти запечатлен период позднего социализма (Емельянова, 2006).
Основа прочности данного образа в том, что люди склонны свои актуальные проблемы мысленно «примерять» на прошлое и идеализировать его. Коллективная память в этом случае выполняет функции психологической защиты, порождая в обыденном политическом сознании «фантомы», призванные эмоционально сгладить «тьмы низких истин» политической действительности прошлого и создать психологическую опору в настоящем.
Заключение
Понятие коллективной памяти, несмотря на столетнюю историю существования, не стало в современной науке общепринятым. Более того, не было разработано единой концепции коллективной памяти, скорее можно говорить, о наличии подходов к этому феномену в различных школах социологии, истории и социальной психологии. По-видимому, проблема заключается как в неоднозначности явления коллективной памяти, образующего сложные связи с другими феноменами обыденного сознания (социальными представлениями, политическими установками, социальной идентичностью и др.), так и в сложности его изучения. Коллективная память - явление «многомерное», обладающее сложной структурой. Исследователи в рамках социальной психологии подходят к нему с разных сторон, изучая его различные аспекты: сохранение образов и их фиксация, воспроизведение образов событий и персонажей как акты ознаменования, искажение и забвение отдельных эпизодов истории, отдельные эффекты коллективной памяти, например, ее связь с эмоциональными переживаниями или поколенческие эффекты и др. Такое многообразие «обличий» коллективной памяти, с одной стороны, свидетельствует о богатстве содержания и важности этого феномена для понимания механизмов психологии социального познания, с другой стороны, осложняет задачу создания единой теории коллективной памяти. Между тем, очевидно, что адекватное понимание многомерного содержания современного обыденного политического сознания невозможно без анализа образов коллективной памяти, разделяемых членами различных групп общества.
Библиограф. описание : Емельянова Т. П. Коллективная память в контексте обыденного политического сознания [Электронный ресурс] // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». 2012. № 4 (июль - август). URL: [архивировано в WebCite ] (дата обращения: дд.мм.гггг).